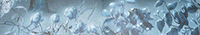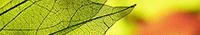|

Поэзия это не «лучшие слова в лучшем порядке», это — высшая форма существования языка (Иосиф Бродский)
Проза
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
Переводчик | Женечка
«Я умру в августе, под стук падающих в саду яблок. На яблоки это будет урожайный год. Но до той поры я хотел бы понять, как оно работает.
Этот язык слышат все. Сказанное на нём заполняет ленты мировых новостей, однако столь же отчетливо неумолчный голос звучит в абсолютной тишине в кажущемся одиночестве. Мы все немножечко переводчики. Все хотели бы разобраться, как оно работает. И каждому рано или поздно предстоит ответить на один понятный безо всякого перевода вопрос. Удивительно, чем больше думаешь об этом последнем диалоге, тем острее становится желание вступить в него, услышать о себе главное.
Я переводчик, я толмач, драгоман. Я перевожу с языка смертей, потерь и обретений. Я промежуточное звено в коммуникации. Не слишком надёжное звено, поскольку знаю лишь несколько грамматических правил да сотню-другую слов. Маловато для серьёзной работы. Но важнейшее мне известно: всё сказанное имеет смысл. Мне любопытно, кто пишет на роду и предусмотрен ли в таком деле редактор, то есть реально ли исправлять написанное. Здесь то немногое, в чём сумел разобраться. Вот правило первое: плюсквамперфект».
Мастерская художника вызывала во мне странные чувства. Благодаря дневному свету, проникающему сквозь стеклянную крышу, загромождённое реквизитом помещение походило на театр, препарированный на анатомическом столе, когда через вспоротые полости разглядываешь, что внутри. Все эти русские гармошки, красноармейские шинели, хомуты, ружья, казацкие шашки висели по стенам вперемежку с картинами, где те же предметы были уже на холстах. За прозрачным конусом крыши стыл октябрь, холодный рассеянный свет превращал революционный балаганчик в задник призрачного сна. Среди портретов красных партизан, маршалов и героев труда в тот день я увидел поразительную картину. Она стояла в углу на казённом кожаном диване. На ней почти в свой рост изображена обнажённая женщина, свободно разлегшаяся на том же самом диване. Краски празднично лучились. Казалось, всё лучшее, что есть в палитре советского реалистического искусства, с безоглядной щедростью выплеснуто на холст. Волосы модели – буйная копна золотого цвета – служили колористической доминантой. Их отблеск падал на прекрасное тело, и оно сияло как подсвеченный янтарь. По волосам не составляло труда догадаться, кто служил моделью художнику, – это была она, Женя. Но лица у фигуры не было – вместо него какой-то плоский блин, лицо осталось непрорисованным.
Она была удивительно красива, наша Женя. Именно удивительно, потому что поражала контрастом: строгий иконописный лик обрамлялся весёлым, вызывающе ярким окладом – непослушной копной золотых волос. В огромных карих глазах застыла аскеза и молитвенное сосредоточение диссонировало с вольными легкомысленными кудрями. Женя была единственной дочерью известного художника. Ей было тридцать пять, а мне пятнадцать и, конечно, я был безнадёжно влюблён.
Свою красоту женщина носила как траурный креп. В присутствии удивительной блондинки смолкали скабрезные шутки. Самому отъявленному балбесу при взгляде на неё закрадывалась в голову мысль о предопределённости бытия. Конечно, Женя была разведена. Невозможно представить мужчину, соответствующего столь строгой и трагической красоте. Но в свой последний год она оказалась не одна – закрутила невозможный роман с бразильцем Карлосом.
В СССР полюбить бразильца было посложнее, чем сегодня подняться на Эверест. Парой они оказались забавной. Она, как северная река: неторопливая, холодная, сильная. А он – карнавальный, птичий, совершенно нездешний. Бразилец одинаково страдал от московской зимы и прохладного русского эмоционального климата. Ростом он казался ниже своей пассии, хотя Женя едва равнялась с ним даже на высоких каблуках. Политический эмигрант, таинственный герой-изгнанник, бежавший от преследований буржуазного режима, он явно нуждался в женском покровительстве, и здесь находил его с избытком: в женином чувстве с готовностью проявлялось материнское.
В тот вечер наш маэстро сдал очередной заказ. Большой грузовик в сопровождении горкомовской «волги» вывез из мастерской огромное полотно. Живописная эпохалка называлась «В штабе революции». На картине изображались пролетарские вожди в ночь восстания. Владимир Ильич Ленин показывал соратникам, склонившимся над картой Петрограда, куда выдвигать революционные дружины. Все лица хорошо узнаваемы, фигуры расположены в строгом соответствии с утвержденной идеологической иерархией.
Теперь монументальный реквизитный стол, который на картине находился в центре композиции, был застелен газетой и на ней красовалось редкое по тем временам угощение: бутылка семизвёздного «Ахашени», банка дальневосточного трубача и палочка импортной сырокопчёной колбаски. Гитара мурлыкала что-то нежное.
Виновник торжества выглядел крайне усталым – лицо землистого цвета, правая рука в гипсе. Вчера, завершая работу, художник, увлекшись, упал со стула, на котором стоял, и сломал предплечье. Но картина должна была быть готова к 7 ноября, к очередной годовщине Великой Октябрьской революции. Поэтому мастер продолжил, и не опоздал. Гипс наложили час назад. Фиолетовые пальцы были испачканы белым.
– Как руку-то сломал, Паша?
– А… Иосифу Виссарионовичу усы поправлял. Он же на заднем плане, далеко тянуться.
– Да уж, до Сталина дотянуться трудно. Даже на картине…
«Смерть это фраза и мы бываем её частью: выступаем то в качестве сказуемого, то обстоятельства действия, то скромного соединительного союза. Рано или поздно станем подлежащим, но только раз. Смерть многозначна, что сильно затрудняет работу переводчика, однако отчаиваться не стоит, потому что смысл сказанного должен оставаться доступным каждому – таково обязательное условие, а значит, надо просто постараться его найти.
Итак, первое правило похоже на грамматический плюсквамперфект. Древние называли это «рок»: когда последствия давнего события вдруг обнаруживают себя в дне завтрашнем и кардинально его меняют – точь-в-точь как в сложной временной форме. Изменения могут быть трагическими или счастливыми. Воздаяние подобно дикому винограду – оно незаметно прорастает сквозь крышу. Многие сетуют на его медлительность, на то, что злодей уходит от возмездия, а праведник остаётся без награды. Но это легко объяснить. Нечто подобное наблюдается при осаде крепостей, когда штурмующие, находясь в центре жарких событий, прижимаются к стенам и тем спасаются от огня. Таким образом, правило управления будущим временем в языке смертей можно назвать ещё по-другому: «В тени крепостной стены»...
За столом кроме меня были четверо: прекрасная Женя со своим смуглолицым избранником и её именитый папА с приятелем Серёжей, художником-авангардистом. Пьяненький Серёжа внимательно изучал нанизанный на вилку морской деликатес. Бледный маринованный трубач был поразительно похож на человеческий эмбрион.
– И ты говоришь, тебе нечего выставлять? – с нажимом спрашивал авангардист.
– Нечего, Серёжа, нечего, – тихо отвечал Паша.
– А это? Это что? – Серёжа тыкал вилкой в сторону удивительной картины. – Сделай ей мордашку – и готово! Фурор произведёшь, сметёшь всех! Ты только посмотри на свою дочь – икона византийская, или не замечал? А на полотне у тебя выйдет Венера с ликом богородицы, шутка ли! Сведи в ней Запад и Восток, сделай это, очень тебя прошу! Ведь можешь, Паша, не всё усы да сапоги малевать. Погоди-ка, а почему она так открыто стоит? Горкомовский кум твой не углядит? Он же везде нос суёт...
– Кум и раскопал. Я к их приезду всяким барахлом её завалил.
– Ну и что?
– Да ничего. Облизнулся и всё. Ничего не сказал инструктор...
Речь шла об участии в дерзкой художественной акции, полулегальном мероприятии, которое спустя год состоится на пустыре московского микрорайона Беляево и прогремит на весь мир как знаменитая «Бульдозерная выставка». Сам Серёжа готовил для неё полотно в стиле экспрессионизма: человек с раскинутыми в стороны руками в неистовом порыве вырывается из железной клетки. Пленник уже на свободе, клетка позади, на лице человека ярость и восторг – вот только прутья рассекли его тело на куски…
– Боишься, стало быть.
– Да чего мне бояться? Ты же знаешь, с моими друзьями врагов у меня нет. Если появляются, то недолго гуляют... Просто не желаю во всём этом участвовать.
– Ха-ха! У меня есть реставратор знакомый, профессор, иконы восстанавливает. Тихий такой старикашка, не человек, а мышка. Так он после пятого стакана однажды признался, дескать, нету у него врагов. А если какой объявится, так, говорит, через недолгое время вдруг возьми да и помрёт. Скоропостижно, без видимых причин… Смешно, правда? Ну и покровители у вас у всех, один чище другого! Только я, дурак, заступников себе не нашёл…
И авангардист залпом выпивает свой коньяк, заедает маринованным трубачом, потом берёт гитару:
Хорошо быть гитаристом беспалым,
Каскадёром слепым – ещё лучше,
Но я хочу иметь братца
С длинными гранёными клешнями,
Он и отрежет мне пальцы,
Он и выколет мне очи,
А потом самой длинной, самой нежной,
Самой отточенной клешнёю
На спине моей прозрачной начертит
Икону дивную, святую,
И я сразу пойму, что за икона.
Её сладостно и рдяно мне явят
Очертания блаженной боли,
Вы же, бъляди, ни хуя не разглядите.*
Паша посмотрел на меня, внимательно слушающего юнца, поморщился, и заговорил о другом:
– Карлос, расскажи, как там у вас в Голландии?
Наш вечер, помимо всего прочего, был прощальным – Карлос уезжал. Тому предшествовали бурные события. Полгода назад бразильца вывезли из СССР в Чили. Возможно, вести коммунистическую пропаганду, а может и по каким другим делам покруче. Первое время бразилец писал Жене. Моя матушка исполняла при молодой женщине роль наперсницы, вместе они разбирали послания от милого. Взвешивалось и обдумывалось каждое слово. Во-первых, потому что слов было немного, во-вторых, потому что смысл их обычно бывал тёмен: бразилец скверно знал русский язык. В отсутствии вестей матушка раскидывала картишки. И по осени нагадала на картах пиночетовский переворот...
На известного короля в тот день падала только чёрная карта. И сколько ни перекладывали колоду, выходило хуже. Женя вконец расстроилась. Это было 10 сентября 1973 года. А наутро в газетах объявили: власть в Чили захватили военные, на коммунистов идёт охота.
Месяц от Карлоса не было вестей. Женя почернела вся, больно было смотреть. А потом вдруг от революционера-интернационалиста пришла удивительная открытка. Из Голландии.
Почему-то он написал не Жене, а моей матери. Может, ему так спешно пришлось бежать, что бросил записные книжки, растерял адреса? Удивительно, как вообще открытка нас нашла, потому что в качестве адреса было написано буквально следующее: «USSR, MOSCOW, МАРИАКАВЛИВНЕ ОКАЛО МЕТРО КИРАВСКАЯ» (Мария Яковлевна – это имя-отчество моей матери, а «Кировская» – нынешняя станция «Чистые пруды»). Нет сомнения, что уникальное почтовое отправление доставили не с Главпочтамта, а с Лубянки, благо недалеко. Женю он в своём послании, слава Богу, не забыл, упомянул, но недоумение посеял и немалое, потому что на открытке был изображён... весёлый амстердамский квартал с красными фонарями на фасадах...
Теперь Карлос вернулся, но надежды увидеться вновь уже не давал. В Голландии бразильца устроили диктором на португалоязычную радиостанцию. Может, и вправду тогда невозможно было иначе, как знать, шла борьба, реакция наступала, каждый штык был на счету. Женя, конечно, дождалась бы его и через двадцать, и через тридцать лет. Думаю, даже осталась бы жива – ведь для долгой жизни нам необходимы такие невидимые нити, которые, причиняя боль, тем не менее, надёжно удерживают на плаву...
Пребывая в прощальной грусти (мне было жалко Женю), я пытался понять этих людей. С художниками всё ясно, их мышление хроматично, они мыслят сочетаниями цветов. Стало быть душа живописца хроматична, видимо, и совесть тоже. Поэтому внутри у Павла все оттенки красного, ведь он убеждённый марксист: от тяжело набрякшего багряного до яркого алого. А вот у Сергея цвета составляют контрастные пары, такой человек не знает полутонов. Но кто такой Карлос? Мне он представлялся старым ребёнком. Ребёнком, детскость которого безжалостно эксплуатируется, так, что наш инфант уже устал от необходимости играть. У Жени же всё было по-настоящему и всерьёз. Краски её души лежали не на поверхности, не на холсте, кровь не меняет цвета, ну или почти не меняет. А наивность любящей женщины проявлялась лишь в том, что для игры она не могла придумать другой ставки кроме собственной жизни.
«В партии с судьбой свою игру вести невозможно. Со ставками неразбериха. Один кладёт грошик и срывает хороший куш, а другому вся жизнь в копейку не встанет. Формальная причина такой несправедливости – тот самый вредный плюсквамперфект, благодаря которому нас без конца догоняет эхо далёких событий. Это он толкает под руку, он путает наши карты: «…Неизбежны веления грозного рока». Однако если воздержаться от трагических интонаций и присмотреться внимательней, то истинная причина окажется в другом, в противоположном, она – в юморе Провидения.
Юмор фундаментальное свойство мира. Не верите? Оглянитесь на мироздание. Ведь обхохочешься, неужели не смешно? Вам кажется, что вы спокойно сидите за столом, а на самом деле летите вверх тормашками со скоростью 30 километров в секунду вокруг чудовищной звезды. Вы берёте сверхпрочный резец и рубите им гранит, инструмент высекает искры – а в реальности вы пустотой долбите пустоту, хотя искры при этом почему-то летят.
Речь о шутках, но шутки сейчас в сторону. Потому что когда касается нас самих, всё очень серьёзно. Как же шутит рок? Как старый конферансье – не боясь повторяться. Виновата в этом непритязательность публики. Мы до сих пор не желаем понять, что бывают следствия без причин, точнее, без очевидных для нас причин. Мы убеждены, что если стукнуть кобылу в нос, она махнёт хвостом. Справедливость требует, чтобы было именно так, то есть предсказуемо, и не иначе. Если происходит по-другому, мы простираем к небу руки и шлём свои укоризны. А небо в ответ с завидным терпением рассказывает вариации всё того же анекдота, в котором вышучивается ограниченность привычной для нас модели мироустройства: слишком скучна детерминистская модель, чтобы быть верной.
Природа юмора в нарушении причинно-следственных связей. Вот какая улыбка покоится в колыбели мира. Не самодовольная, мол, всё у нас хорошо, мы паханы. А улыбка от той щекотки, которую вызывает парадокс.
Поэтому, когда случится умирать, посмейтесь над нелепостью своей судьбы, отдайте должное сценаристу, он, ей-богу, старался. И сами постарайтесь пошутить. Как бы ни было трудно. И по-возможности пошутите не зло».
– Ты не понимаешь, Паша, не понимаешь! – не унимался пьяный авангардист. – Ты не отдаёшь себе отчёта, насколько это важно – выйти на площадь! Можно прогнуться раз, другой, можно даже в третий раз прогнуться, мы все, в конце концов, люди. Но однажды наступает момент, когда ты говоришь себе: «Баста, хватит. Я человек. Я Че-ло-век!» И сейчас такой случай. Поезд уходит, Паша, а ты остаёшься. Этот поезд называется искусство... Допиши картину, время ещё есть, – и полушёпотом, низко к нему склонившись: – Ты убиваешь её, отняв лицо…
– Нельзя, Серёжа, нельзя. Не один же я на этом свете. Кумовья, опять же, захаживают…
«Ахашени» допит, трубач съеден, хозяин смертельно устал. Пора нам и честь знать. Мы выходим на пронизывающий октябрьский ветер. Вокруг редких фонарей мечутся тени деревьев, мокрые листья шуршат под ногами. Большой город удивительно пуст. Ах, ну да, Красная Пресня в то время ещё почти окраина… Темны окна подвальчика, в котором несколько лет спустя пройдут художественные выставки Центра неофициального искусства, куда очереди будут стоять, как в войну за хлебом. Скоро в тот же дом переедет Владимир Высоцкий. Между прочим, песенку про прерванный полёт поэт как раз в те дни написал:
«Смешно! Не правда ли, смешно! Смешно!»
Метро открыто, мы успеваем на пересадку. Перед расставанием больно и сладко ноет сердце. Нам кажется, что расстаёмся только на день или два, что впереди у каждого беспечная и бесконечная жизнь. Так часто бывает, когда увидеться больше не суждено.
Художники одни из немногих, кому можно верить. Потому что художники как дети. Детишки, конечно, разными бывают. Иные почище нас валяют дурака, ходят, скажем, побираются по электричкам, а то и по карманам шарят. Но даже такие – испорченные воспитанием или обстоятельствами – по своей сути остаются детьми. Говорят, если на время оставить маленьких одних, то они придумают свой язык. Интересно было бы послушать. Но не столь уж важно, что способны наболтать непосредственные люди, сколько бы им ни было лет. Для нашего дела профессиональные художники удобны тем, что прекрасно иллюстрируют собой кое-какие грамматические правила. С одной стороны, их души обнажены даже тогда, когда сами они пытаются врать, – на картинах всё отлично видно. С другой, рок их хранит (ведь и взаправду дети!) Точнее, предназначенные художникам тумаки от этой их детской непосредственности отскакивают, как от листовой брони, но при том больно рикошетят в окружающих. В итоге получается и поучительно, и – по-своему, конечно, – забавно.
Наш непутёвый Серёжа в скором времени стал нешуточно знаменит. Несколько его картин, нелегально вывезенных за границу, с успехом экспонировались в Европе, после чего были приобретены крупной парижской галереей. Мировая известность служила оппозиционному художнику страховкой от серьёзных неприятностей на социалистической родине, хотя беды помельче шли за ним чередой – он жил в нищете.
Паша продолжал демонстрировать свою всегдашнюю образцовую стабильность, творя портреты номенклатурных товарищей и воспроизводя номенклатурные же сюжеты. В искренности его партийной кисти невозможно было усомниться. Признанный мастер, он одушевлял любые схоластические понятия, вдувал жизнь в заведомых мертвецов. Причём ни внешне художник не изменился, ни даже рука его не потеряла твёрдости после гибели дочери. Да, полгода спустя после описанной выше вечеринки Женя погибла. Причём страшно.
Со своей семилетней дочкой она жила в небольшой коммунальной квартире на Маросейке. Единственной соседкой Жени была приятная дама пенсионного возраста. А у той был взрослый сын. Его мало кто видел, потому что много лет он находился на излечении в психиатрической лечебнице. Определили же его туда после совершения тяжкого преступления, после убийства. И вот он вернулся. Сразу стало ясно, что одинокой и привлекательной молодой особе опасно находится рядом с человеком, который не совсем вменяем, но при том уверен в своей безнаказанности. Женщины отлично знают, как красота притягивает всякую дрянь. Но что было делать? Переезжать сложно, особо некуда, да и есть ли, на самом деле, причина? Трагические события, тем не менее, не заставили себя ждать. Пенсионерка на четверть часа отлучилась из дома, а когда вернулась, нашла квартиру залитой кровью. Безумный сосед искромсал свою жертву ножом, не оставив живого места. Не тронул он только её лицо.
В день прощания было солнечно, но впервые золото жениных волос выглядело безжизненно и тускло. Белое, будто припудренное инеем, лицо казалось собственным гипсовым слепком. Со строгой невозмутимостью покойницы соперничала лишь невозмутимость Павла. Не знаю, чего ему это стоило, впрочем, он всегда был такой. Больно ужалило, что дед скрыл от внучки трагедию, на похоронах матери не было дочери. Вот он, совок, когда за человека решают, что ему нужно, а что его может травмировать. Похороны тяжкая процедура, спору нет, и в раннем возрасте она ранит особенно сильно. Но грубый рубец на сердце потом становится памятной и желанной меткой о человеке. Очень важно запомнить в обличье смерти того, кто был нам близок. Часто возвращаясь к этому образу, мы начинаем лучше понимать жизнь, за что испытываем к ушедшему благодарность.
Дед взял сироту на воспитание. Спустя некоторое время появилась серия проникновенных портретов большеглазой белокурой девочки, разительно похожей на мать. После этого Павел почти перестал писать. Хотя его спокойствие, внешняя непроницаемость, несомненно, имели своим следствием внутренние разрушения, но прожил художник ещё довольно долго. Последние его работы были удивительными. Из поездки к себе на родину в Карелию он привёз с десяток пейзажей. Писал там ночами. Вряд ли кто-нибудь ещё создавал такие поразительные белые ночи – иссиня чёрные, с понурым солнцем, стыдливо выглядывающим из-за высоких, как крепостные башни, чёрных изб...
«Историю с Женей я перевожу как небрежность художника в обращении со свободой. Кто-то скажет, а как же латинос, ведь это он разжал руки, он сделал женщину беззащитной, открытой для бед. Нет, бразилец здесь ни при чём. Пылкого мачо выписали для Женечки как яркий экзотический подарок, как последний праздник под этим небом, когда всё давно уже было предрешено. Тем его роль и ограничилась.
Большинству людей свобода не нужна, они не знают, что с ней делать. Пытаться объяснять кому-то, что высшей свободой является служение, бесполезно, смотреть в возмущённо разинутые рты скучно. От толпы детерминизмом разит сильнее, чем потом. Единственные, кто не могут без свободы обойтись, это художники, она им требуется для дела. Но чтобы понять, как следует обращаться с такой тонкой штукой, нам снова придётся заняться грамматикой. И сейчас мы познакомимся с глаголом.
Есть две важнейшие и при этом принципиально разные части речи: существительное и глагол. Что такое существительное, объяснять никому не надо, это знают все. А вот что такое глагол, мало кто может сказать, потому что для объяснения приходится пользоваться существительными, то есть совершенно неприспособленным для этого материалом. Из-за чего и возникает путаница.
Что такое «огонь»? Что такое «любовь»? Что такое «истина»? Всё это процессы. А вы произнесли: «огонь», и вроде как дело сделали, успокоились, хотя того огня уже и в помине нет, равно как и той любви, и позавчерашней истины. Глагол непрерывен, существительное конечно, и в этом их коренное различие. Существительное (по-другому «мысль») фатально от глагола отстаёт. Оно как фальшивый «ролекс» – показывает лишь то время, когда вы его купили. Как тут быть? Очень просто: не торопясь тщательнейшим образом надо отделять мух от котлет.
Если вы нормальный человек, не придурок какой-нибудь, то сделайте себе сами или закажите в мастерской добротный морёного дуба огонь, железобетонную любовь и кованную, хорошо проклёпанную истину. Расставьте их по углам и спокойно себе живите. Хватит на сто лет. Когда однажды вдруг обнаружится, что что-то не так, – не тушуйтесь, поменяйте местами, повозите по комнате, пока не найдёте правильного взаимного расположения. И живите спокойно ещё сто лет.
С художниками по-другому, они люди глагола, им всё живое, натуральное подавай – и огонь, и любовь, и истину. Да ради бога, не вопрос, возьмите! Но только уж не взыщите – по углам такое хозяйство подвигать не удастся.
Паша обошёлся со свободой, как с мебелью, вот и получил. Но поскольку был художником и хорошим, искренним художником, то расплачиваться пришлось другим, тем, кто рядом стоял».
*Из стихотворения Шиша Брянского.
Пол Тиббетс
С Серёжей несколько лет спустя мне довелось снова встретиться в мастерской другого живописца, помельче и попроще. Собственно, и не живописца вовсе, а скромного оформителя, ведущего, однако, вполне богемный образ жизни. Слава, так его звали, был добрейшим малым. Замшевый кепарик с пимпочкой на макушке мило гармонировал с улыбчивым лицом. Импортная курточка создавала у заказчиков представление о солидности художника в сочетании с близостью к современным веяниям в искусстве. Последнее усиливалось свободно повязанным вокруг шеи шёлковым шарфиком. Слава с завидным умением выклеивал стенды наглядной агитации, интерьерные макеты, рисовал афиши и был весьма недурным графиком. Его крохотная двухэтажная студия помещалась в старом доме на Каланчовке. На короткое время я попал к нему в ассистенты. А про Серёжу молва шла по Москве как про известного вертоТраха. Однажды он нагрянул к Славе с девочками и своей разбитой гитарой.
Девочек было трое. Все они приехали поступать в столичные вузы без протекции и теперь работали на ликероводочном заводе. Одну звали Элеонора, другую Изабелла, а третью Наташа. Я подумал, что в первых двух случаях речь идёт о творческих псевдонимах и лишь последняя барышня выступает, так сказать, с откинутой вуалью. Личики всех троих вряд ли могли удовлетворить взыскательный художнический вкус, что отчасти объясняло отсутствие протекции, зато фигурки были ладненькие, а в большой авоське призывно позвякивали бутылки, заткнутые пыжами из обрывков газет. Слава молниеносно сделал с юных дам портретные эскизы углём, щедро комплиментарные, и веселье покатилось.
Бремя мировой известности мало изменило Серёжу. Он оставался всё таким же плакатным, порывистым, ярким. Профессиональное донкихотство на русской почве предполагает сражение не с ветряками, а, скорее, с жерновами ветряков – дело малоэффективное и не эффектное внешне. Даже просто покрасоваться со своим картонным мечом негде. Но зато есть удивительная чуткость женщин, их понимание, жалость, жертвенность, что искупает собой всё. Юные поклонницы на нашего странствующего рыцаря смотрели с таким восторгом, что мы со Славой, как могли, изображали княжескую свиту, поднимали торжественность момента на должную высоту. К середине застолья, когда авоська изрядно похудела, а в лицах девушек проступили, наконец, те пленительные черты, которые мой добрый наставник чутко уловил в своих эскизах, европейская знаменитость о чём-то загрустила.
– Серёжа, что задумчивый стал? Случилось чего?
– Я хибакуся, – ответил Серёжа, подумав.
– Кто?!
– Хибакуся. Так себя называют японцы, которые остались живыми после ядерных бомбардировок.
– Господи, какие бомбардировки? Ты о чём?
Оказалось, что наш записной авангардист загорелся самой что ни на есть просоветской идеей – написать картину-протест для какого-то конкурса за мир во всём мире.
– Серёга, ты, часом, не заболел?
– Нет. Я фотографию видел...
– Какую фотографию, атомного взрыва, что ли?
– Нет, лётчика, который первую бомбу сбросил. Его зовут Пол Тиббетс. А его маму зовут Энола Гэй.
– Какие милые подробности! Ну и что?
– Я никогда этим не интересовался, но мне всегда казалось, что парень, который сжёг сто сорок тысяч человек, в большинстве своём женщин и детей, должен или переживать по этому поводу, если он нормальный, или не переживать, если злодей. Но во втором случае он и выглядеть должен, как злодей...
– Про то, как злодеи выглядят, у нас надо спрашивать, Серёжа, а не у американцев. Младенец твой Пол со своими ста сорока тысячами... Ну, да ладно. Так говоришь, бедняга сильно мучился?
– Нет, ничуть, гордится своим подвигом.
– Значит, все-таки злодей?
– В том-то и дело, Слава, что нет! Он такой... Я когда его увидел, я... я... Я в Бога поверил!
– Слушай, фотки этой при тебе, случаем, нет? Охота поглядеть, что там за чудо такое...
– Да нет никакого чуда, обычный паренёк, мордастенький, на Лёньку нашего, между прочим, похож. Но только... Понимаешь, как наши людоеды выглядят, я не хуже тебя знаю. В каждом из них сидит понимание того, что они вытворяли и всегда готовы при случае повторить. А этот... Многие интересуются, не болел ли чем лётчик? Саркомой какой-нибудь, раком, проказой? Может, с ума сошёл? Или его детей машина переехала? Может, хотя бы дом у него сгорел? Ведь должно же что-нибудь ужасное произойти с ним, с его экипажем, с их семьями! Но, оказывается, ничего такого, Слава, всё у них о'кей. Я на это тоже удивлялся, пока на фотографию не посмотрел. А когда посмотрел, то решил, что будь я Господом Богом, то взял бы этого Пола Тиббетса под своё особое покровительство. Чтобы ни одна пылинка на него не села. Чтобы дожил он до глубокой старости, до ста лет, как минимум до девяноста. И чтобы всё это время оставался таким же румяным, мордастеньким и счастливым. Потому что... Потому что на это надо смотреть, Слава, это надо видеть. Наши палачи на старых бл...й похожи, а тут такая невинность, что плакать хочется. А как щебечет, ты бы послушал. Говорит, дескать, если бы мы не сбросили свои бомбы, то есть не пожгли бы этих японских баб с их приплодом, то американским солдатам пришлось бы начинать десантную операцию, то есть воевать, и многие из них погибли бы в бою с японскими мужчинами, вот ведь как... Нет, Слава, такой человек долго жить должен, очень. Ведь это просто какой-то вселенский хохот, это потрясающе смешно...
– Чудак ты, Серёжа. Что ты упёрся в этого американца! Будь у нас тогда бомба, знаешь, сколько бы сейчас таких героев по улицам ходило?
– Ну да, ты прав. Но ведь мы варвары. Мы же калибаны недоделанные, куда нам до чистых... Кроме того, счёт-то у нас о-го-го какой, нам есть что предъявить...
– А вот считать в данном случае, Серёжа, как раз и не надо. В каком-нибудь другом случае надо, а в этом нет. Иначе в чём между вами разница, не пойму.
Мне, конечно, очень не понравилось, что меня сравнивают с каким-то американским лётчиком, и я уже собрался об этом заявить, как рот открыла девушка, которую звали Наташей. Поскольку девицы до того времени только похихикивали, мне это показалось удивительным и я смолчал.
– Пикассо «Гернику» написал, – робко сказала она.
Слава тоже с удивлением воззрился на неё, но для Серёжи ораторские способности подружки, похоже, не были новостью.
– Там другое, Наташка, – отмахнулся он, будто продолжая давний спор, – это живопись катастроф, обыкновенная вещь, как литература катастроф или кино такое же. Художник описывает произошедший кошмар, и в этом весь его сюжет. «Гибель Помпеи», короче. А в нашем счастливом бомбометателе – хохот неба, понимаешь? Это назидательная шутка такая, монументальнейший коан. О, я бы хотел попробовать писать такими красками, представь – мазки в сотни тысяч человеческих жизней, в десятки лет, и ведь кто-то же так резвится! Я не о политике, конечно, говорю...
– Мне кажется, что природе не нравится, когда вы рисуете катастрофы, товарищи живописцы. Хороших картин на такую тему нет, или почти нет. Потому что это то же самое, как за девочками в туалете подглядывать...
– Нет, Наташка, быть тебе искусствоведом, ей-богу! Слава, скажи, как тут не запить? Наливай!
«После смерти мы увидим мир вне времени. В таком мире нет тайн. Он откроется перед нами весь целиком, от самого своего начала до конца. Мы увидим, как по неподвижной глыбе бытия скользит, будто луч сканера, сверкающая полоса настоящего, выполняя рутинный, во многом формальный акт – преобразования будущего в прошедшее. Время не более чем ширма. Новым Прометеем станет тот, кто её отдёрнет. Однако даже без посторонней помощи нам, живым, можно кое-что разглядеть, поскольку есть в этой ширме прорехи. И одна из таких прорех – юмор Провидения, о котором мы уже говорили. Провидение не может не шутить и на этом попадается, этим пробалтывается – к великой радости переводчика. Одна из излюбленных, часто повторяемых и, несмотря на это, наиболее изящных его шуток – паузы воздаяния.
Пол Тиббетс, как легко догадаться, дослужился до генерала, а в мир иной отошёл почтенным старцем в возрасте девяноста двух лет, причём сделал это совсем недавно. По-другому и быть не могло, иначе небесную канцелярию уличили бы в детерминизме, как в мелком взяточничестве, а подобное, учитывая принципиальную значимость случая, невозможно себе представить. При прощании с героем вряд ли кто-нибудь слышал апплодисменты, которыми сопровождалось завершение этой биографии, но можно быть уверенным – овации не смолкали долго, сценарист раскланиваться устал».
Зайцы. Фантина и Леонид
Наверное, надо сказать несколько слов и о том, как сам я пытался творить. Разумеется, ничего путного из таких затей выйти не могло, потому что ну что я за художник? Я всего лишь чертёжник, скромный непритязательный копировщик. Впрочем, пока сам о себе что-либо на практике не выяснишь, приходится тратить время. Верный апологет наиновейших конструктивистских идей, я, помнится, решил сосредоточиться на цилиндрах (с кубом, как известно, хорошо поработали задолго до меня). Но даже Штейнберг, мой обожаемый геометр Штейнберг, который ой как много может рассказать о вдумчивой сосредоточенности круга или эмоциональности треугольника, даже тот с сомнением качал головой, наблюдая за моей старательной вознёй. «От ума, всё у тебя от ума», вздыхал мастер.
Конечно, от ума, как могло быть иначе? Хотя то, что мышление есть лишь частный случай сознания, я понял довольно рано. Сомнения стали глодать меня, когда я внимательно разглядывал «Мыслителя» Родена. Великий скульптор, как всегда, был безупречно точен в этой работе, но, согласитесь, что способен выдумать изображённый им человек – скорчившийся в позе эмбриона? Только что-нибудь соответствующее, то есть эмбрионально детское, а потому ограниченное. Почему он так напряжён, серьёзен, скован, от чего закрылся? Посадите рядом изваяние Будды – и вы сразу увидите разницу, она просто убийственная. Нет, скрипучая арба мышления мало куда годится, это я заподозрил уже тогда. Надо полагать, мысль применима лишь «к зоне средних измерений», как говорят физики, то есть к малым скоростям, к ограниченным пространствам. Между тем у любви (а ведь мы прежде всего её хотим постичь) скорость света или очень близкая к ней, даром что ли всё в ней сплавляется и переплавляется. Да и сила тяготения в этом чувстве, похоже, не меньшая, чем в атомном ядре, то есть такая, какую в обычных условиях невозможно представить...
Вот тогда-то, гуляя по регулярному французскому садику среди прекрасных статуй, я впервые задумался о языке смертей. Навели на эту мысль женщины, кто же ещё, благо их там немало. Между прочим, я с первого шага правильно начал – с исключения из правил, то есть поступил в полном согласии с законом парадокса, что сразу настроило оптимистически. Первым моим открытием в этой области было то, что женщина есть идиоматический оборот, есть непереводимая игра слов, которую надо просто запоминать, не пытаясь понять.
У женщин свои отношения со смертью, потому что им есть что смерти противопоставить. Женщины и не умирали бы никогда, кабы не старость. Просто каждая однажды решает, зачем жить, если ты уж не молода?
До Роденовского садика я добирался через две страны и по пути успел заметить, что француженки разительно отличаются от соседок по континенту. Дело тут не в климате, не в религии и не в особенностях домашних вин. Всё дело в языке. Эту маленькую тайну я открыл чуть раньше будучи студентом. На факультете мне поручали заведовать техническими средствами обучения, я выдавал преподавателям иностранных языков магнитофоны под роспись. Все препы на кафедре были женщины и они чётко подразделялись на три группы. «Англичанки», то есть преподаватели английского, вели себя вполне адекватно и выглядели совершенно нормальными. А вот «немки» сплошь были какими-то деревянными. Я не мог отвязаться от подозрений, что они носят сорок четвертый размер обуви и что у них хрустят суставы при ходьбе. И такими же со временем становились лучшие их ученики. Зато «француженки»... О, это были женщины! В них был шарм, лёгкость, озорство. Эти умудрялись пококетничать даже с новеньким диапроектором, появившимся в лаборатории, игра была присуща им как дыхание, они поражали быстротой реакции. Нет, смерть обязана быть француженкой, то есть галантной, предупредительной, светской. С такой нам будет интересно и легко. Соответственно и язык смертей ближе всего к французскому. А отсюда уже только шаг до любви, то есть до вопроса, зачем он вообще нужен, этот бессловесный, странный, труднопереводимый язык смертей? Чего ради придуман? Что нам стараются на нём растолковать?
Большая любовь перевернула прежде закрытую для меня страницу. Я прибился к племени зайцев, меня приняли в их досточтимый орден.
Влюбляться случается всем и многим везёт полюбить по-настоящему. Вот только далеко не каждому выпадает стать протеже смерти.
Мою любимую звали Фантина. С ней единственной я не чувствовал присущего моему поколению недостатка – нашего ужасающего и позорного инфантилизма. Потому, наверное, что она была ещё большим ребёнком, чем я. Впрочем, по-другому вряд ли могло случиться, ведь само имя её значит «ребёнок», а имена оставляют на нас печать. Меня же она церемонно называла Леонид. Фантина оказалась старше своего возлюбленного на восемь лет, но она принадлежала к тому типу женщин, которые делают несущественной разницу в возрасте. Типичная бретонка, она была похожа на озорного мальчишку, вечного придумщика, бесконечно изобретательного, в том числе и в постели. О, зайцы недаром символизируют собой избыточную сексуальную энергию, это верное наблюдение. И ещё зайцам сказочно повезло, что их вместе со свиньями, крокодилами, тушканчиками и некоторыми другими счастливчиками некогда выделили в разряд нечистых животных. Потрясающая удача, согласитесь, знак особого благоволения небес. И хотя в свой ковчег старик Ной таких выбракованных существ, согласно предписанию, брал не более двух пар, но зайцам с их искушенностью в плотских утехах не составило труда быстро преодолеть последствия дискриминационной квоты. Нет, Бог одинаково хранит и зайцев, и француженок, он явно неравнодушен к тем и другим.
Фантина была инспектором французской таможенной службы. На борту советского траулера, перед его выходом в Атлантику, ей был поручен контроль за добычей морепродуктов. А я на нашем работяге СРТМ был обыкновенным матросом. Не знаю, как она сумела разглядеть меня среди стольких бравых парней в зюйдвестках. Сойдясь по-детски открыто, без утайки, мы только молились с ней на погоду, и погода испортилась, что подарило нам ещё одну неделю. О том, какими красивыми были наши отношения, говорит тот факт, что по возвращении меня никто не заложил особистам, никто из всего экипажа – ни во французском Бресте, ни в Калининграде, беспрецедентный случай для славных советских лет.
Я как сумасшедший писал её портреты по памяти, извёл на судне весь картон и оргалит. К чёрту цилиндры и кубы! Мне было важно без оглядки на каноны школ запечатлеть блеск её зрачка – вне ряби времени, в бесконечном победном глаголе. Её портреты, безусловно, лучшее, что удалось сотворить с помощью красок.
Однако наш «экзотик-тур» на качающейся палубе под возбуждающий запах свежей рыбы был всего лишь рядовым вступлением, тривиальным мотивчиком, который каждому случается высвистывать. Симфоническая ёмкость и глубина привносится в музыку сами знаете кем.
«Приступим к диктантам, поскольку нельзя освоить язык без практических занятий. Смерть как классная дама педантична, поблажек не даёт и писать под её диктовку трудно. Заранее приготовленные ответы могут оказаться невостребованными, потому что главный вопрос всегда один – сломаешься ты или нет. Это как в шторм на спасательном плоту: убивают не волны и не жажда, а ощущение жуткой бездны под тобой. Страх останавливает сердце. На море даже посреди полного штиля, случается, находят набитые трупами шлюпки с нетронутым многодневным запасом продуктов и воды. Ощущение бесконечной заброшенности, ничтожности своих сил перед громадой бед есть самое трудное. Как же быть? Нужно сражаться. Сражаться несмотря ни на что, в самой что ни на есть безнадёге. Урок в том и состоит.
Так что если вы, в самом деле, застряли посреди океана в шлюпке, то у вас, кроме естественного желания сию же минуту умереть от отчаянья, должна появиться масса дел. Нужно править своим судёнышком, чтобы его не опрокинуло. Для этого вы должны без устали грести, хладнокровно следя за ритмичностью дыхания. Вы обязаны высмотреть в воде и подобрать всех, кто нуждается в помощи. При этом надо ловить в разрывах туч созвездия, вспоминать, в какой части неба они находятся, где, соответственно, берег или оживлённые морские пути. Вы должны запоминать, куда и с какой скоростью несёт вас ветер. Надо придумать, как и во что собрать дождевую воду, потому что уже завтра она понадобится. Вполне возможно, что «завтра» для вас не наступит. Что с того? Всем известно, что рано или поздно случится такой шторм, который потопит самую надёжную вашу лодку. Но дело чести, чтобы кораблик был развернут по курсу, а вас самих застали на гребке».
Поскольку в описываемые годы предполагалось, что Советский Союз будет существовать вечно, следовало принимать во внимание это обстоятельство и как-то к нему приспосабливаться. Фантина энергично взялась за дело. Наблюдая за её действиями, думаю, не один я, но и любой другой пришёл бы к выводу, что трагедия Гондваны лишь мелкая семейная неурядица. Влюблённая женщина сближает континенты, а такую непроницаемо глухую вещь как «железный занавес» делает прозрачной занавеской. Решения и поступки моего Зайца были стремительными и масштабными. Кто-нибудь скажет, что у женщины её возраста не было другого выбора. Возможно и так, согласен. Хотя, с другой стороны, когда женщине тридцать пять, это означает лишь то, что ничего невозможного для неё нет, а всё, за что берётся, она делает безошибочно и быстро.
Уяснив, насколько сложно любить человека из другого мира, и поразмыслив над этим некоторое время, Фантина в один день вступила во Французскую коммунистическую партию, стала активистом Общества франко-советской дружбы и записалась на курсы русского языка. На вопрос членов партийной ячейки о причинах вступления в ФКП Фантина, прижимая к груди последний номер «L'Humanité», честно признавалась, что «с детства любила Пифа», и продолжатели дела коммунаров с пониманием кивали головами. Затем она бросила таможню, перебралась из Бретани в Париж, где всецело отдалась общественной деятельности. Радикальное социал-демократическое крыло приобрело в её лице на редкость энергичного неофита. В столице отважного Зайца взял под своё покровительство её дальний родственник, старичок Жан-Луи. Ветеран мирно доживал свой век, пописывая мемуары, благо было о чём рассказать – в годы второй мировой полковник служил в военной разведке. Дед по достоинству оценил устремлённость внучатой племянницы и взялся помогать в её безумной затее. Зачем нужны профессиональные навыки, если нельзя их использовать во благо близким? Бывший разведчик наставлял неопытного политика, обращал внимание на ускользающие от несведущего человека детали.
Вчерашний рыбинспектор с удивлением обнаружила, что планирование PR-акций мало отличается от настройки донных тралов и крабовых ловушек: стада человеков ненамного сообразительней косяков минтая и трески. Меньше чем через полгода с подготовленными ею речами стали выступать спикеры в парламентских фракциях. Солёные морские словечки и ясный взгляд на вещи многим пришлись по вкусу. Фантине хватало ума оставаться в тени, что, впрочем, и мудрый дедушка советовал.
Влюблённая женщина на многое способна ради избранника, при этом её страсть окрашивается свойствами национального характера. Русская женщина сообщит вашему существованию нешуточную глубину. Еврейка деликатно, но властно вылепит из вас общественно значимую фигуру. А француженка сделает Европу заложницей ваших близких отношений. Собственно, зачем ещё Европа нужна?
«Смешно! Не правда ли, смешно! Смешно!»
В любом случае ищите опору в женщине за тридцать. Это бесценный человеческий материал. Лишь один у неё недостаток, присущий, впрочем, всякой влюблённой женщине, вне зависимости от возраста и рода-племени: такая женщина безумно притягательна для других. И потому уязвима.
Года не прошло, как к очередной памятной дате полка «Нормандия-Неман» в Москву прибыла французская делегация ветеранов, в составе которой в качестве организатора, администратора и переводчика была моя Фантина. Ни разу не побывав до того в Москве, она уже прекрасно ориентировалась в городе. Посмеивалась над «хвостами», гуляющими за нами, однако лучше бы она этого не делала. Как тщательно ни готовил её дедушка, но даже он такого предвидеть не мог: Фантина умудрилась влюбить в себя «гебешника», которому поручили нас «пасти».
Поначалу трогательно было наблюдать за борьбой чувства и долга в уже немолодом человеке, но умиление быстро сошло на нет. Майор стал проявлять охотничий азарт, который зайцам не может нравиться. При этом стрелка сбивали с прицела две вещи: неоспоримые достоинства его самого как охотника и кажущаяся обречённость пойманных в силки жертв. Мы и вправду стали зависимыми от него, когда Фантина нашла возможность остаться в Москве при одной из французских миссий. Влюблённый чекист стал просто груб. «Зачем благородство, когда все козыри на руках?» С этим его искренним недоумением на лице нам и случилось запомнить майора.
«Но продолжим о диктантах.
Мы все любим одиночество. На языке смертей это пауза, которая нужна для разделения слов. Хоть четверть часа одиночества в сутки нам необходимы, чтобы перевести дух, потому что духу без этого нельзя. Вот только великая стихия одиночества теперь, как многое, опошлена. Сегодня оно есть лишь задник костюма буржуа: спереди у него сытый животик, а сзади это задолбавшее всех одиночество. Одиночество стало глобальной проблемой, вроде потепления климата, по поводу чего принято высказывать тревогу и озабоченность. Но при этом вам никто никогда ни слова не скажет о зайцах. Никто. Никогда. И ни слова! Как же так? Как такое возможно? Ведь по сути это означает, что всё ложь, господа!
Когда вы гибнете на плоту в океане, то именно в такие моменты постигаете великую мощь заячьих лап, нежных, мягких, слабых – и потрясающе сильных. Это они разводят тучи, чтобы вы смогли разглядеть Южный крест или Малую Медведицу, поскольку никаких других созвездий не знаете. Это они делают волны положе, а ливень хлеще, чтобы вы набрали в выпотрошенный спасжилет пресной воды. Это они потом вас, полумёртвого, выкидывают на пустынный берег, где вы снова возвращаетесь к жизни. Не волнуйтесь, физика процессов не страдает при чуде – попробуйте разорвать силу притяжения в одном-единственном атоме, а ведь здесь он за вас не один! «Он не кур па дё льевр а ля фуа!»* – выкрикиваете вы код своей женщины, крепко затверженный идиоматический оборот, заветный пароль – и суровый дозор расступается.
Обязательный урок классной дамы состоит в том, что, пока идёт борьба, союзничество заячьих лап представляется ничтожным. Но нет более могучего соратника, чем нежность любящего сердца. Нежностью выстелены пути к спасению и других дорог к нему нет. «А вот одиночество, – учит Смерть, – это грубейшая ошибка».
Вы не поверите, но он умер, этот наш «пастух», пышущий здоровьем красавец майор. Причём обошлось без мелодраматических эффектов, без использования табельного оружия не по назначению. Смотрел хоккей по телевизору на своей даче – да так и остался в кресле. Лёгкая смерть, оборвался тромб. Вспомнился мне тогда тихий реставратор, про которого Серёжа рассказывал. Стало быть и нам кто-то дорогу чистит? Вот уж не ожидал. Понимаю, когда богомазам помогают, но нам-то за что?
Разумеется, тогда мы ничего не знали о произошедшем – просто исчез наш майор и всё, перестал докучать. Мы подумали, что в «конторе» о его неуместной страсти стало известно и были приняты меры. А «контору»-то он, как оказалось, провёл... О смерти майора много лет спустя рассказал знакомый отставник из «наружки», он был в курсе нашего дела. Времена настали другие, чекисты стали разговорчивее. По роду своей деятельности мне тогда довелось поближе сойтись с «рыцарями плаща и кинжала», познать их стальные, но такие ранимые сердца. Самую могущественную в мире разведку развалили к чёртовой матери, «государевы люди» на десяток лет оказались в загоне и искали себя кто в чём, в том числе в коммерции. А мне, признаться, до определённой степени жалко было и этих людей, и их дело. Ведь в чём трагедия хоть того же нашего майора: в том, что пробуждение подлинного чувства таких, как он, убивает. Не все же знают, что стены тюрем прозрачны, что «железные занавеси» проницаемы, что всё налаживается, если любишь.
Фантина после известия о его смерти требовательнее стала к себе и ко мне, восприняв произошедшее как аванс, который надо оплачивать. Каким образом? Кто его знает, наверное, надо больше трудиться, не тратить время по мелочам...
Старик Жан-Луи оставил Фантине домик в Сен-Клу, пригороде Парижа. На нашей свадьбе он был шафером. Когда хоронили ветерана, я впервые задумался, что все мои домашние тоже ушли в августе. И моё приключение на плоту, в результате которого едва не составил им компанию, произошло в этом месяце, генеральный прогон получился... Впрочем, всё пустое, ведь времени нет, точнее, время среди нас лишь временно…
Теперь я сам буржуа. Копаюсь с дедушкиными розами, ухаживаю за яблонями, полюбил красное вино. Вот Фантина отправляет меня на велосипеде на рынок (свежий судак так дорог!) Мне очень хорошо здесь. Кисти в руки давно не беру: смирился с тем, что блеск зрачка любимой женщины неуловим. Так что из серьёзных дел у меня осталось только одно – встретить август.
* Оn ne court pas deux lièvres à la fois – За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, (франц.).
Сергий
Природа искусства женственна. Вслед за женщинами и художники склонны к трансформациям, подчас таким же глубоким, как беременность и рождение новой жизни. Художник с мировой известностью, Сергей на пике успеха оставил живопись. Стал священником, уехал из Москвы и взял себе далёкий приход. Отныне он писал иконы, некоторые из них мироточили. Наташа, его верная спутница, за двадцать лет действительно ставшая прекрасным искусствоведом, теперь попадья: доит коров, стряпает у печи. Ещё сто лет назад подобный поступок художника ни у кого не вызвал бы удивления, но в наше время эпатажный уход приобрёл оттенок перфоманса, поскольку вслед за пустынниками в лесную глушь потянулись операторы ТВ, французские в том числе. Так мне случилось ещё раз повидаться с Сергеем, теперь Сергием, поскольку в телевизионную экспедицию я вошёл в качестве переводчика.
Его церковь стояла на холме в излучине двух рек. Издалека храм походил на кусок сахара. Весной, когда реки разливались и холм превращался в остров, плат земли с церковью плыл по отражённому в воде небу.
Караван телевизионщиков поднимался по реке. В паводок другой дороги не было. Для отрезанных от мира аборигенов мы везли два ящика гвоздей, свёрла, ступичной смазки к трактору, канистру молодого французского вина, кое-какие продукты. Местных оказалось шесть человек. Отца Сергия без труда можно было узнать по долгополой рясе, женщина рядом с ним была, конечно же, Наташа. Но ещё один из общинников, издалека выделявшийся богатырской статью, показался мне знакомым. Мать честная, да это же Валька, мой однокашник, журналюга из Тулы, бизнесмен из бизнесменов, вот это да!
После церемонных представлений и сердечных объятий я первым делом к нему:
– Да что это такое, везде знакомые рожи! Российская интеллигенция не прослойка, а прослоечка какая-то, тонюсенькая!
– Обижаешь, начальник! Какие мы тебе интеллигенты при духовном лице? Была нужда...
Ко мне подошла женщина со строгим лицом:
– Это французы? И ни одного негра? Странно...
– Да предлагал я негров взять. И водки. Не согласились...
– Ты насчёт водки здесь не шути. Да и насчёт негров тоже, – потянул меня в сторону Валентин. – Кого это ты привёз? Не «Капа» какая-нибудь оранжевая?
– Не волнуйся, это другая программа. Ребята искусством интересуются, духовным нашим наследием. Вот та стриженная под ноль тётка – обозреватель из «Art Press».
– Знаю я ихний интерес, считай потом калоши... А вон там что за баба без возраста? Явно не француженка.
– Это Маша. Мы её во Владимире подобрали. Оказии ждала, чтобы к вашему отцу Сергию попасть. Взяли и потом только поняли, что она очень больная. Я подозреваю, раком желудка. Обезболивающие спиртом запивает, я такое в первый раз вижу. Видно, совсем бедняжке край. Как бы не пришлось её вам тут хоронить. Вы уж извините...
– Не переживай, сюда каких только не возят... Но телефончик на всякий случай оставь, если что – на вас валить буду.
– Вали, Валя, вали. С меня уж двадцать лет взятки гладки. Постой, а что это, отец Сергий теперь уже и наложением рук лечит?
Отставной медиа-богатырь только пожал крутыми плечами, снисходительно глядя на меня сверху вниз.
Погода стояла неустойчивая. Яркое апрельское солнце вдруг заволокло облачной дымкой. Организационный движок нашего каравана – неутомимый оператор Жан – предложил немедленно взяться за дело, чтобы воспользоваться благоприятным для съёмок мягким освещением. Оказалось, что отец Сергий неплохо говорит по-французски, так что помощь переводчика не понадобилась, поэтому я с удовольствием наблюдал за происходящим со стороны. Из уст русского священника французская речь звучала как знак признательности Республике. Плотная кучка людей под серебряным зонтом с микрофонной удочкой, слепящими фонарями и громоздкой камерой перемещалась по острову прихотливыми зигзагами, повинуясь диктаторским указаниям оператора.
– ...Клод Бернар... Жан-Клод Маркадэ... – слышались знакомые имена, – ...французы живут по законам искусства, а на своих картинах изображают обычную жизнь...
Обозреватель «Art Press», молодая женщина, привлекала внимание. Её гламурная внешность вызывала отстранённые постмодернистские ассоциации: круглая головка в кадре выглядела как печать, удостоверявшая подлинность происходящего особым концептуалистским образом: будто знаменитая трубка Рене Маргита, под которой написано «Это не трубка!» На фоне иконостаса, церкви, затопленного водой бора салонная безупречность журналистки выглядела забавно.
– Вы не жалеете, что оставили живопись? – спрашивала она священника.
– Я много раз отвечал на этот вопрос: Господь в службе называется изрядным художником, то есть художником всех художников. О чём же жалеть? Всё на пользу священническому служению...
Наконец, гости занялись обустройством быта. На следующий день был намечен праздничный обед.
– Лёня, – подошла ко мне попадья, – французы кур резать не дают. Объясни, чего им надо?
– «Коко ван» они хотят приготовить для русских друзей. Только настоящий. Им нужен старый, жёсткий, бесполезный в хозяйстве петух. Шесть часов варить будут. В вине.
– Ого! Вот какая, значит, нашему Петруше тризна уготована. Мужики обзавидуются...
Ближе к вечеру у отца Сергия нашлось время и для Маши из Владимира. Священник увёл женщину в церковь. Они долго не возвращались.
Оператор Жан тем временем наладил связь с Парижем по спутниковому телефону:
– Сколько кошек во Франции? Я не знаю, сколько кошек во Франции, поищите в Интернете... Хорошо, закончу здесь с русскими и займусь кошками...
Отцу Сергию от генерального спонсора программы торжественно вручили ноутбук.
– Французы, конечно, в меньшей степени мыслят покупками, чем американцы, но, право, это лишнее... И электричества здесь нет... А впрочем, приму подарок, спасибо. Я его в сельскую школу передам, если не возражаете...
На следующий день была Красная горка. На остров на украшенных лентами лодках прибыла сельская свадьба. Французские киношники и мечтать не могли о таком повороте сюжета. Отец Сергий с утра прихворнул, однако венчание провёл. На торжественный пикник под открытым небом он не вышел. «Коко ван» из Петруши был сметён гостями до косточки, гарантируя отныне долгую жизнь всем окрестным петухам. «Это где они столько вина найдут?» – высказала, впрочем, сомнения общинница со строгим лицом.
Маша из Владимира выглядела веселее, прихлёбывая свой спирт за счастье молодых.
Принявший водочки Валентин разнежился и настойчиво втолковывал Жану:
– Понимаешь, по старой технологии штукатурку на стены накладывают руками – шлёпают ладошками и размазывают, размазывают... У меня с детства мечта была – потетешкать собственными руками весь православный храм, от фундамента до купола, как ребёнка, как женщину! И уж тут-то я потешился... Чего замолк? – обиженно спрашивает он меня.
– Как я им «потетешкать» переведу? Куда тебя вообще занесло? Скажи спасибо, отец Сергий не слышит, а то сейчас прикажет штукатурку ободрать!
В следующие два дня ничего существенного не произошло, если не считать, что погода окончательно испортилась, а отец Сергий расхворался не на шутку. Жан порывался отправить экспедиционную лодку за врачом, даже вызвать вертолёт, чтобы с подобающей помпой транспортировать священника в лучшую парижскую клинику, но тот только отшучивался. По мере ухудшения самочувствия главы прихода странным образом росла отчуждённость прежде доброжелательных к нам поселенцев. Машу обходили как зачумленную. Стало понятно, что нам лучше уехать. Когда гости собрались в путь, отец Сергий с трудом встал с постели проводить. Валя нехотя протянул мне вялую ладонь для прощания:
– Бывайте!
Женщина со строгим лицом высказалась определённее:
– Скатертью дорожка!
Лодку отпихнули от берега, она легко пошла по течению. Студёный ветер гнал навстречу редкий снег. Мы закрылись от холода брезентом.
– Хочешь, возьми спирт. Мне он теперь не нужен. – Маша протянула початую бутылку.
– А мне он зачем? Оставила бы ребятам... Что плачешь? Радоваться надо, ведь не болит.
– Как же мне радоваться? Господи, такой человек... Почему так получается?
– Перестань. Это дело не наше. Оно даже не твоё. Все мы тут только статисты. Вот ты думаешь, зачем я сюда приезжал? Треногу для французской телекамеры подержать? Чтобы экзотическое кино снимать для европейских телезрителей? Да смысл всей этой командировки в том только и состоял, чтобы тебя к Сергию доставить.
– Эк ты завернул... Вот уж подарок так подарок... И ближе оказии не нашлось...
– Не нашлось. Потому что не пустяковый момент, значимый. И это особо надо было подчеркнуть. Видишь, он друзей французских вспомнил, славу свою мировую, юность опять же... Из таких рук, знаешь ли, всё приятнее... Я вот с ним с пятнадцати лет знаком.
– Смерть ты ему на лодке привёз, вот что. Меня, то есть, сволочь такую и дурищу... Вместе с воспоминаниями...
– Перестань. Между прочим, ничего ровным счётом не решено, понятно? У таких людей свои тёрки с Богом. Не забывай, что его иконы мироточат, а наши с тобой нет, да и не пишем мы с тобой икон вовсе. Поэтому ты о себе думай, матушка. Тебе, слава Богу, есть теперь о чём думать. А о нём не беспокойся. Чем бы ни кончилось – ему всё хорошо.
– De quoi parlez-vous?* – подозрительно спросил Жан, поводя чутким на сенсации носом.
– De vien, Marie demande commen on peut arriver a la ville...**
«В заключение попробуем сказать что-нибудь сами.
«Сказать» значит продемонстрировать силу, что на языке смертей звучит многообещающе. Однако дешёвое детерминированное сознание, как всегда, вышучивается Провидением. В ход идут знакомые хохмочки, в которых всё наоборот и шиворот-навыворот. И получается, что реальную силу можно доказать лишь прямо противоположным – смирением.
Кто пользовался этой штукой, тот знает, во-первых, какая чудовищная разрушительная мощь в смирении заключена, во-вторых, насколько рационален метод, и в-третьих, что истинной его природой является нахальство.
Сказанное покажется удивительным лишь тому, кто адский фугас смирения ни разу не снаряжал.
Итак, как оно работает.
Вот нас обидели и мы мечтаем отомстить. Прежде чем предпринимать решительные действия, подумаем, что такое «обида». Если не списывать происходящее на случайность, то ниспосланное нам жестокое испытание есть обычная проверка слуха: слышим мы сказанное или нет. Если нет – говорить не о чем, а если слышим, то возможны только два варианта: или мы заслуженно несём кару (а каждый отлично знает свои грешки), или отдуваемся за других (то есть нами в данном случае манипулирует «плюсквамперфект», «рок», «судьба», «невезуха» и проч.). В первом случае пенять не на кого, а вот во втором налицо очевидная несправедливость. Если правда на нашей стороне, то мы обязаны действовать. Как? Ответ вас убьёт: никак. Надо смириться.
Это очень непросто. Это настолько непросто, что мало кто из нормальных людей, тем более людей «с возможностями» выбирает такой жалкий, трусливый, недостойный путь. Большинство втягивается в борьбу. Дальше месть возвращается (таково свойство мести), и пошло-поехало по кругу.
Между тем, чтобы фугас сработал, нужно сделать две простые вещи: сорвать чеку и дождаться результата. Но и то, и другое трудно.
Мы пускаем механизм воздаяния, когда поднимаемся против общего течения, против естественного желания отомстить. Для меня как переводчика теперь любой порыв раздражения или гнева – ошибка в произношении, грамматике, синтаксисе. Потому что есть кому позаботиться о справедливости в этом мире, а если так, то высший рационализм и наипохвальнейшее нахальство – сидеть, не поднимая рук, в готовности подставив «другую щёку».
Затем должно пройти время, порой весьма продолжительное (маятнику воздаяния нужно совершить положенный ход, в небесных канцеляриях ещё большая волокита, чем в наших) – пока, наконец, возникнет новая «случайность». Вот она-то и расставляет всё по своим местам. И это такое тонкое исполнение, в сравнении с которым самая изощрённая ваша месть окажется детской шалостью.
Когда мы приделываем к добру кулаки, то тем ослабляем его, понижаем температуру, приспосабливаем для бытовых нужд. В смирении же нет ограничений и потому оно остаётся опаснейшим и, наверное, самым совершенным оружием, пользоваться которым следует осмотрительно.
Наш мир – это кристалл с невидимыми, но очень прочными гранями. Для большинства из нас незримый костяк мира обнаруживает себя лишь тогда, когда в результате ошибки случается расшибить лоб о невесть откуда вынырнувшую сваю инобытия. Потом мы это так и назовём – «случайностью». Те же, кто знает о существовании прозрачной кристаллической решётки, не то что по воде – по воздуху ходят без труда. Подоплёку бытия делает различимой чувство любви. А уж когда видишь, то по этим сваям можно карабкаться сколь угодно высоко – как по лествице».
2007 г. — май 2009 г.
* О чём это вы?, (франц.)
** Пустяки. Маша спрашивает, как ей добраться до города, (франц.) | |
| Автор: | reshetnikov | | Опубликовано: | 20.07.2009 15:56 | | Создано: | 2009 | | Просмотров: | 3215 | | Рейтинг: | 0 | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

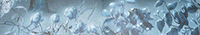
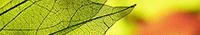
 Авторизация Авторизация |
|