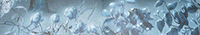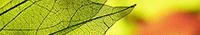|

Красивые рифмы нередко служат костылями хромым мыслям (Генрих Гейне)
Проза
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
парадокс Рубинштейна 7. Римма Исаковна | | Н. А. | * * *
Когда-то давно-давно, лет -дцать назад, он приехал к маме в свой родной город.
Один.
Немногим раньше он всегда приезжал с женой. С детьми, с одним или с двумя сразу. А, может, даже, и с тёщей, с тестем, когда тесть был ещё жив. На их стареньком “Москвиче”.
В те времена чувствовались какие-то заметные семейные скрепы. Какое-то единство тем, о которых можно говорить всем, не скучая. Не дожидаясь нервно, когда же он или она закончит, наконец, об одном и том же.
Всё на том дворе ещё стояло ново и свежо.
Время шло. Скрепы ржавели. Семейный очаг пошатывался.
Это его сельское внутриклановое пространство тяжелело, довлело, обрастало мхом и потихоньку ему осточертевало.
Всё реже и реже встречались сваты. Впрочем, с его стороны в сватах числилась только Римма Исаковна. Отец Наум Миронович до его семейной жизни не дожил.
И вот наступил, как говорится, момент.
Он обнимает маму на пороге родительской квартиры один. Молча.
На немой вопрос Риммы Исаковны: где все, где внуки? – ему ответить нечего.
– Ты что… с Анной развёлся? Дожились, азохэнвэй… – произносит мама после долгой немой сцены. Она, конечно, видела и чувствовала, что грядут нерадостные перемены.
– Нет, мам. Не развёлся. Ерунда это всё.
– Что ерунда?
– Разводиться ерунда. Пустая трата времени и нервов.
– Ты от них ушёл, Лейба? Совсем?
Он прошёл в свою комнату, не спеша расстегнул дорожную сумку, выложил нехитрый джентльменский набор на стол, на котором когда-то делал уроки.
Влез в свои домашние тапки.
– Я, мам, в своём доме живу. Который и их тоже дом. Только они в нём жить не хотят.
– Так он же ещё не достроен. Как это ты в нём живёшь?
– Так и живу. Нормально живу. Строюсь помаленьку.
Римма Исаковна тяжело опустилась на диван, закрыла лицо руками.
Чтоб он не видел её нервного тика по щеке.
– И что тебе с ними-то не живётся? Ладно, Люся ещё маленькая, а ведь сын без отца… Яше-то отец в доме нужен, Лейба, азохэнвэй…
– Не живётся, мам.
– Ну почему?
Он долго не мог ответить матери. Он сам не знал точно, почему.
– Почему в доме не живётся?
– Ну да… в доме. И вообще…
– Ну, в доме-то потому, что там их епархия крепостная кончается. Власти их там нет, вот и не хотят.
– Это да. Это понятно. А вообще?
– Знаешь, мам, что такое зов джунглей? Мам, я не знаю, есть ли такие женщины, с которыми он не слышен, но… с Аней он звучит как это… как трубы ерихонские, что тут скажешь? Я просто там уже не могу.
– Анна честная девушка, не пьющая, не гулящая, прекрасно воспитанная, таки какого тебе ещё рожна надо, азохэнвэй? Родила тебе двух чудесных деток, а у тебя зов? По бабам, что ли, зов этот? Кризис среднего возраста, как они там нынче это называют?
У него тогда не было ещё ни Кати, ни Маши, ни двух Оль. Не дожил он ещё и до недолгих встреч с Галей Чебурашкой. Ещё и близко не было реинкарнации его библиотечного романа с Мариной Гольцевич. Самая сильная любовь в его жизни, Соня Джабраилова, была ещё ой как далеко от того дня.
И, страшно сказать – его любимый кот Моисей ещё лет десять как не родился.
– Нет, мам. Не по бабам.
(Тут он, конечно, соврал. Его в родном городе ждала тогда такая серьёзная девушка Ира, с которой он встречался по юности. Эпоха интернета их на тот момент снова ненадолго сблизила)
– В общем, нажились, детки. Двенадцать лет – и весь цимес. Бабник ты, Лейба. В деда Ицхака бабник. Бедный мой мальчик…
– Чёйто бедный-то? Я себя пострадавшей стороной не считаю, – пробасил он в ответ.
Мать отвернулась. Она не привыкла сыну демонстрировать свои слёзы.
Он подошёл сзади, обнял мать за плечи, возвышаясь над ней горой.
– Мам… знаешь, сколько моих друзей развелось? Не знаешь? А я тебе скажу: все. Вот что было у меня – все уже развелись. Игорёк в Москве уже с третьей расписался. С двумя развёлся. Этот по загсам ходить любит. Красиво расписываться, наверное, уже научился. Эдик со второй. Боря так бомжует, сама видела недавно.
Только про Герасима не знаю, врать не буду. А так – все.
Его близкий дружок, военный лётчик Павлик Герасимов, на тот момент полгода как валялся в госпитале с серьёзной травмой позвоночника. После не слишком удачного катапультирования в какой-то горячей точке в Центральной Азии. Павлику было не до разводов.
Он, понятно, этого не знал. Поэтому тут он врать маме не собирался.
– Что у вас за планида такая? У нас с Наумом всё было просто… проще. С первого взгляда – и на всю жизнь. С института. Почему так, Лейба?
– Мам… если подумать… ну, мир изменился, времена другие – это банальность. Я тебе щас подумаю маненько, скажу. Как поем, что ли… Ой, вейзмир, доставай свою мацу, две недели не жрал ни хрена.
Он старался подыграть под веселуху, разбавить немного материны слёзы. Хотя у самого от её слов что-то поперёк горла встало. И есть совсем не хотелось.
– Деревня твоя пообкультурила тебя, конечно. Азохэнвэй… не жрал… да, сын, некошерно это всё. От начала и до конца. Сейчас я тебе такой мацы с квасом намешаю… и редьки туда натру. Недели на две чтоб продувало. Чтоб слова мои запомнились лучше.
Но стол её был, конечно, отменный. Готовила Римма Исаковна как в лучших домах. Он наедался у неё точно недели на две.
За тушёной курочкой с грибами и под стаканчик белого сухого винца из смородины (его производства, с прошлого года оставил) он подумал. И молвил следующее.
– Так вот, мам. Понимаешь, сказать, что мир изменился – это не ново. Он меняется каждый божий день. Устроен так потому что.
А почему люди друг с другом сложнее сходятся и уживаются – оно потому, что этот мир познаётся ими всё больше и больше. Пространство познания расширяется…
– И что из этого? Детей надо бросать?
– Мам, ты не дослушала. Детей я не бросил. Я и Анну не бросал… ну об этом позже.
Так вот. Люди, расширяя своё пространство, проникают в чужое всё бесцеремоннее и наглее, я б сказал. Невидимыми волнами и нитями, разными психоделическими уловками люди, как во все времена, стараются вкладывать поменьше, а получать побольше. За счёт других. Это было всегда.
Только народ раньше попроще был. Поглупей, я бы сказал. Пооткрытее, подоверчивее. Как вы с папенькой – партия сказала – надо, комсомол ответил – есть! Ну, это не в обиду, мам, ничего плохого в том не было.
Просто это происходит до некого предела. Бесконечно этого никакой народ не потянет. Люди умнеют и видят мир шире. И наступает момент, вот как у меня. Ерихонские трубы. Как вострубят, заснуть невозможно.
Доколе, задаёшь себе вопрос. Доколе, блин, дурь чужую на своих плечах носить?
И понеслось – перестройка, гласность, слом Берлинской стены. Это я не про политику, мам, это я про внутренний мир чела разумного. Раз в пару-тройку поколений стены рушатся. Внутри.
Что потом? Плотину прорывает, полилось дерьмо. Оно сначала незаметно, что дерьмо, потом прочувствуешь: ага, дерьмо…
– Лейба… за столом сидим, азох…
– Так вот. Дерьмо. Ныряй – не хочу. Это внутри. А потом – доколе? Опять, мам – доколе?
И – срочно строишь стены. Внутри. Чтоб дерьма поменьше.
Это как у Пинк Флойда – Стена. Но ты их не слышала, поэтому для тебя попроще – кругом стены. Заборы. Внутри, снаружи. Люди – они в черепашьем панцире от их нагромождений.
Из этого следует что?
– Короче можно? Склифосовский…
– Мам… ведь можешь, панимаешь, классику процитировать.
Ну, в общем, варятся они в эпоху этих огораживаний в собственном дерьме. Мир открылся – мир закрылся. По синусоиде.
– И что? Детей бросать?
– Да не бросал я детей. Дальше – эго не принимает из-за стен чужих правил. Чужих чаяний. Чужой кармы. Плохого и хорошего. Потому, что… мам, вино моё ещё осталось? Я вроде две бомбы тогда оставлял?
– Вот чай есть. Хороший, с мелиссой. Пей чай, Склифосовский ты мой бедный…
– Да, мам. Я в следующей жизни буду врачом. Если доживу. Чего сказал?
Он рассмеялся. Римма Исаковна тоже первый раз улыбнулась.
Голова его многострадальная на тот момент ещё не была разобрана, а потом опять собрана по причине удаления образовавшейся менингиомы.
Но он уже тогда вполне серьёзно другую свою реинкарнацию решил посвятить медицине. Он уже понимал, что это реально круто. Как выражаются нынешние интеллектуалы от компа.
– В общем, мам, поумнели все слишком. Чтоб ещё и двери открывать друг другу.
– Ой, вейзмир, и что? Время всегда одно и то же. Надо любить и надо детей воспитывать. А не зовы слушать. Так тебя любая, прости, Господи, как там русские люди говорят, прошмандовка позовёт, и ты, шлемазл этакий, по проституткам пойдёшь? А???
Это она таки весело уже сказала, без злобы. У неё вообще никакой злобы ни на кого не было, а на сынка великовозрастного и подавно.
– Мам. Уж если ты это слово употребила, чем они отличаются от честных женщин? Вот скажи, мне интересно.
– Как чем? Таки за деньги продаются кому попало, чем ещё?
– А по-моему, они честнее честных женщин. И берут дешевле.
– Как дешевле? А почём же берут нормальные, сынок?
– Ну, честнее это потому, что не скрывают, что конкретно им от мужика надо. А дешевле… Мам, сейчас девяносто девять процентов женщин если ищут, то не любимого человека, а крепостного подкаблучника. Да, вот так. Не меньше. А что отдаст потенциальный крепостной за близость к телу?
– Таки шо?
(тут мама продемонстрировала колоритный одесский акцент. Она приняла стаканчик выстоявшегося смородинного вина, и жизнь ея как бы с тем потихоньку и наладилась)
– А таки всю жизнь свою, уже почти никчёмную, вместе со свободой, вот шо. А ты говоришь, с первого взгляда.
Он кувырнул остатки вина прямо из горла тяжёлой бутылки.
– А я, по-твоему, как? Крепостного себе выискала, Лейба?
– Нет, мам. Ты из оставшегося одного процента. Тебе просто шибко повезло.
Нету, что ли? Надо в следующий раз тебе ещё парочку привезть. В этот раз не захватил, собирался наскоро. Спасибо, мам. Пойду я, прогуляюсь.
– А с мамой посидеть, Лейба? Куда торопишься?
– Мам, ждут меня. Вечером посидим, поговорим.
– О!!! Во!!! Видали!!! Уже ждут! Бабник ты первый, Лейба. Ну как с таким Аня может ужиться? Как внуков теперь видеть буду, азохэнвэй?
Римма Исаковна уже перешла на свой припрятанный коньячок, которого клевала по рюмочке. Для здоровья, говорила она, когда сын посматривал на неё строгими тёмно-карими глазами. С последними фразами это здоровье эмоционально разрядилось наружу.
Да, её не обманешь, подумал он.
* * *
– Ну как поговорил с мамой? – спросила Ирина. Они, нацеловавшись вдоволь, лежали на тёплой ещё сентябрьской травке на крутом волжском бережку, где-то под Верхне-Печёрским монастырём.
– Да чушь п-прекрасную несли, – ответил он нехотя.
Это точно. Тогда они были ещё молодыми. То есть моложе. И мама, и Рубинштейн. Лет на -дцать. | |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

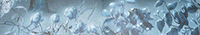
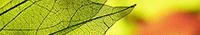
 Авторизация Авторизация |
|