|
|
Сегодня
30 декабря 2025 г.
|
Ум нередко бывает тупой судия произведений сердца (Константин Батюшков)
Проза
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
| из цикла "Дом на Меже" | Дом на Меже. Часть четвёртая. Солнцеворот. Глава 17 | 17. Слово правды
В доме два телика, пять гитар, пианино, бильярд, вытащенный с чердака, карты, накрытые столы, выпивка и под три сотни мужиков.
Необъяснимая тишина в большом зале, где только мы вдвоём: Слава Румын и я.
Деньгами от него – пахнет. Конкретней – приглушённым лоском не дурака. У него хмурость Межича, глубоко вырезанные ноздри, и это выражение родственного кредита. Ещё – Слава Румын очень высокий. Мы садимся, но сразу встаём и так продолжаем разговор. Зал кажется тесным.
У Славы Румына такие глаза, как будто прямо сейчас он разговаривает по мёртвой луне. За границей ещё студентом он дрался и пропустил арматурой в голову. Операцию делали на открытом черепе. Нормально прошло, только мигрени остались. Изматывающая боль – причина не совсем нормального взгляда в упор. Прожектор на три тысячи ватт – ни уклониться, ни шагнуть навстречу.
Слава Румын политик, вице-мэр, он умеет говорить. Баланс держит: нависая, он смягчает голос. Откидывая голову, тоном уходит в металл.
А ещё он умеет бить, не замахиваясь:
– Тебе нравится та девочка?
---------------------
Про себя огрызаюсь: какое ваше собачье дело? И злюсь на себя: «ваше», а не «твоё», слабак.
– Красивая девочка? – улыбается. – Женись на ней.
Я в глаза ему:
– Агнешка? Почему вы не называете её по имени: Агнешка?
– Потому что не уверен, – отвечает он так просто и мягко, что я ощущаю вину. – Ты с ней знаком, а мы даже не знаем, как Агнешка выглядела. Ведь тогда не было фотоаппаратов!
– Точно… Извините.
– Есть и очевидные признаки: ты, живой ребёнок, играешь с танцующим призраком. Ты взрослый встречаешь её именно там, где маленькая паршивка от нас прячется. Вы оказываетесь рядом и по мёртвой и по живой луне. Вы остаётесь реальными друг для друга! Но ведь так не может быть. Понимаешь, что это значит? Вы на границе, на меже. В противофазе. Тебе известно значение этого слова?
– Примерно…
– Это значит, что через вас мёртвые и живые стоят рядом. Вплотную, от слова плоть. Вообрази Агнешку лицом к лицу. Она видит тебя, но и мёртвых. Ты видишь её, но и живых. Вы – мост. Понимаешь? Всё: луна больше не разделяет наш род!
– В противофазе, ок. Но я не понимаю, откуда следует, что кровосмешение проломит стену между живой и мёртвой луной.
---------------------
Слава Румын даже не морщится на слово «кровосмешение», мимо ушей пропускает:
– Очень просто, Межка. Смотри, у тебя есть жена…
– Но Агнешка моя сестра, я отношусь к ней, как младшей…
– …не важно! Послушай, теперь вы с Агнешкой, как бы общаетесь по телефону: бла-бла. Свадьба – это плоть и кровь. Сыграем на нижнее солнцестояние, как тебе?
– Если бы я и согласился, она вовсе не…
– …в лучшем виде устроим! Только представь: главный день в году – именины рода…
– Полный дом гостей, да?
– …с обеих сторон, – уточняет Слава Румын. – Живые и мёртвые, все кричат: горько! Ей было четырнадцать, как и тебе. Перст судьбы! Но ты не обязан ждать самого праздника. Главное – верни её в дом. Приводи сегодня, бери её.
– Как?
– Позови и возьми.
– Что значит, возьми?
Слава Румын улыбается. Мимо политики, не сдержавшись.
---------------------
Снова, снова, и снова он повторяет эту фразу: ты понимаешь, что это значит? Он забивает меня как гвоздь в половицу. Тщательно прицеливается, чтобы не вкривь и не в сучок, чтобы согнуть и – заподлицо. Был Межка, и нет, ровное место. Не пора ли с размаху? Все ломаются, не все гнутся.
Под истекающей яркой луной мы наматываем круги по двору:
– Агнешка из Межичей по крови! Она должна быть здесь! Верни её и тебе самому не придётся шнырять туда-сюда. Живые будут ходить по мёртвой луне, как у себя дома, в тапочках. Древние старики увидят своих потомков. Откроют нам прошлое. Нам, только нам. Ведь ты понимаешь, сколько знают мёртвые? Столько могут живые – всё! Что это значит? Ну, скажи сам, ты мне скажи!
Он не дожимает, если бы… Он ждёт. Слава Румын уверен во мне, как в своей крови.
– Нет.
Я отвечаю не назло, а как Межич – Межичу искренне. Что имею, то и отдаю – правду.
Слава Румын уточняет:
– Нет: не понимаю? Или нет: отказываюсь?
– Да – понимаю. Нет – отказываюсь.
– Что ж… Думаю, я ещё не исчерпал аргументы, и мы вернёмся к этому разговору.
Возвращаемся, куда деваться. Завтра, послезавтра… Его изощрённая логика – сущая ерунда, на фоне подспудного, разлитого по дому ожидания.
Из-за дверей голоса. «Настоящий Межич! Румыну в лицо сказал нет! Крепкий пацан, а это главное. Образумится ещё». Кошмар какой-то.
---------------------
С размаху не вышло. Я превращаюсь из гвоздя в шуруп. Две недели вкручивания мозгов: только представь будущее… Только вообрази…
Слава Румын и я шатаемся по улицам.
– Покажи мне, что ли наши края. Река обмелела?
Мы сворачиваем к ней, идём по топкому оплывающему берегу. Там, где ограда Баронского Парка сходит к воде, Слава Румын поскальзывается и, схватившись, ранит ладонь о чугунный прут.
– Дьявол!
Как будто обжёгся. Красная черта от мизинца до пульса. Нельзя так содрать полоску кожи. Остужая боль на ветру, Слава Румын взмахивает рукой:
– Видишь сваи? Было время, там ныряли с моста…
Снова, снова, снова:
– Кто-то вынырнул, кто-то нет… Представь, что всё обратимо. Что все выплывут… А ведь это в твоей власти, Межка. Вспомни про брата хотя бы.
Опыт за каждым словом. Откуда Славе Румыну знать? Близко его не стояло, когда мы откровенничали.
Ярик не меняется! Он скулил: «Живая луна всё рядом, не забыть. Ищешь её спросонья рукой под подушкой, а нету, приснилась. Я так скучаю!»
– Ты решил за брата, Межка, сбыться его надеждам или нет? Представь, что за счастье ты дашь ему. Подумай, подумай ещё раз! Ведь там не один Ярик. Сотни людей придут к Межичам. Тысячи, сотни тысяч возьмут милость из наших рук. Потому что мы добрые. А они – благодарные нам…
– …а неблагодарные?
– А неблагодарных не будет! – рисуясь под злодея, Слава Румын заканчивает разговор.
Каждому слову верю. Ему – ни на грош.
Лего рушится, и я оступаюсь. Да я просто пьян. От актёрства этой большой акулы на мелководье. От его чувства моей крови, от покровительственной руки на плече. От свежей раны и запаха ожога. Ещё лего в пятку. Главное устоять на ногах, иначе станет гораздо больней. | |
| Автор: | agerise | | Опубликовано: | 19.12.2019 10:06 | | Просмотров: | 2075 | | Рейтинг: | 0 | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

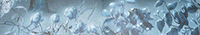
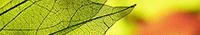
 Авторизация Авторизация |
|




