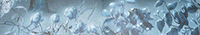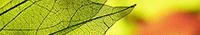|

Из двух ссорящихся виновен тот, кто умней (Иоганн Вольфганг Гёте)
Проза
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
RJ. часть 1 | Молодой человек в самом расцвете сил, лет тридцати пяти, по имени Юрий Кончак в День Российской космонавтики был весьма взволнован. Завтра, 13 апреля 2517 года от Р. Х., в пятницу, ему предстояла важная встреча. Из староимперской губернии Центральная Меряния была заказана телепортация в одну дальневосточную российскую губернию, Северное Хонсю. Туда же должна прибыть его виртуальная избранница, девушка двадцати восьми лет, Рюитико.
Это был его эксперимент на себе. На своей утомлённой встречами и разлуками с противоположным полом многострадальной шкуре.
Рюитико была апофеозом его новаторской разработки в области психопрограммирования. Она идеально подходила ему в партнёры по нынешней действительности во всех отношениях, во всех психологических штрихах, известных современной науке.
Юра, кандидат медицинских наук, замдекана кафедры психологии при Мерянском универсариуме, что находится в Костроме, рассуждал так. При научно доказанной полигамии вида гомо сапиенс все эти неизбежные встречи-разлуки, в общем-то, закономерны. Но ведь не бревно гомо этот сапиенс, в конце концов. Страшно больно бывает ему при разрывах с избранными когда-то половыми партнёрами. Психологически некомфортно. Любофь, твою ж мать… Одному захотелось, другому расхотелось.
Бывают, правда, гомосапиенсы приспосабливаются к этой неизбежности, машут руками, плюют, не придают значения. Не парятся. Старая установка, неизвестно каким древним философом задвинутая в менталитет, “Don’t worry, be happy” иногда работает. Но бо́льшая часть исследуемого контингента всё же страдает от несвоевременных, по их мнению, разрывов и от свободы выбора свободных людей.
Жизненные нестыковки были кончаковским коньком. Юра любил решать научными методами не поддающиеся научному окормлению проблемы.
Наблюдаются, правда, реликтовые случаи, когда люди прут против своей природы и образуют пары по типу “муж – жена”. Иногда ненадолго, иногда, в особо редких случаях, и до конца жизни. Но это считается вполне научным исключением из правил, аномалией, и наблюдается у людей, склонных к садомазохизму путём ограничения своей и чужой свободы.
Но это, подумал Юра, есть и средство от душевной боли, вызываемой последствиями полигамии. То есть психологическими травмами от расставаний и разных там ошибок и неразборчивости в партнёрах.
Может, возможно совместить эти модели, подумал Юра. Он читал где-то поразившие его рассуждения одного античного игровода досетевой эпохи по имени Эльдар Рязанов.
Бывают жёны (ну, типа, постоянные партнёры), говорил Рязанов, которым хочешь, но не изменишь. А бывают жёны, которым не хочешь, но изменишь. Порывшись в справочникам по досетевой эпохе, Юра узнал, что “изменить” – это вступить в половую связь вне пары “муж – жена”.
Юра крепко задумался над сказанным. Выходит, та же природа не даёт проявить индивидууму его природную же склонность к полигамии. Есть, видимо, уловка против отрицательной стороны моногамии, этого самого садомазохизма. Пока условно – есть.
Он перечитал гору античной литературы по этому вопросу, и научной, и художественной, пересмотрел долгие часы всяких видеоматериалов из эпохи Рязанова.
(Они тогда почему-то назывались фильмами, от слова фильм – плёнка. При чём тут плёнка, Юра так и не понял).
И он сделал для себя ценный вывод. Стабильность пары “муж – жена”, либо “любимый – любимая”, название не столь важно, в тонком психологическом совпадении типажей. Но не в прямом, а, назовём это балансирным совпадением, со сложной системой сдержек-противовесов. Непаханое поле деятельности для психолога, подумал КМН и замдекана кафедры Кончак Юрий.
Лет десять у Юры ушло на научное окормление идеи создать нечто осязаемое на сей скользкой ниве. Перелопачивая отдельные примеры, факты, фактики и прочие незначительные и значительные материалы, Юра создавал Систему. В ход шли даже пословицы, поговорки, неприличные подпевки и иной национальный эпос тех времён и более поздних лет, художественное творчество разных народов и временных срезов. И, конечно, труды известных и менее известных психологов, психиатров, философов, пророков, шаманов, бардов и блогеров уже сетевой эпохи.
И вот, венцом его академической деятельности была явлена программа психологического тестирования на совместимость гетеросексуальных пар. Она была размещена в космонете и был объявлен набор добровольцев для её продвижения в массы стремящихся к вящей гармонии и душевному спокойствию в половой сфере.
Кончак рассуждал ещё и математически. Психологически совместимых параметров для потенциальных гетеросексуальных партнёров у него получилось не так много – не большие тыщи, а так, сотни полторы. Это включая самые новейшие фишки в психологической науке – и когнитивно-симуляторная девиация Шамсуева, и комбинаторика психотипичных групп по Свордингу, и теория Юриного учителя, академика Лебедева, по сравнительным нейросоматическим корреляциям человека и половозрелых приматов, и даже микростатистические дискретные флюктуации подросткового либидо по Гржемачеку.
Людей на Земле миллиарды. Теоретически по тестам Рязанова-Кончака (так он не без гордости обозвал своё детище) для отдельного соискателя идеального партнёра нетрудно подобрать пару. Трудность лишь в том, что его не различить в толпе, среди множества одинаковых на вид рож. И тел. И ещё чего там. Найти – ключевое слово. Распознать. Испытать на деле. Смотреть за развитием отношений. Делать выводы. Учитывать возможные промахи программы. Исправлять ошибки. Это будут его задачи на ближайшее время.
**********************************************
Из родного Костромского аэропорта джетов на Дальний Восток не летало отродясь. Рейсы в дальневосточные российские губернии были в фешенебельном курортном МеКиРе (Merjamaa Kineshma-Reshma International Airport), но там, по давней русской традиции, на реконструкции который месяц стояла взлётно-посадочная полоса для дальнемагистральных судов. Так что и МеКиР на данный момент был для Юры недоступен.
И доктор Кончак решился на не столь давно появившуюся телепортацию. Миллионы людей, однако, ежедневно уже телепортировали по миру, Землю опоясала сеть телепортационных станций. Про проблемы и сбои этой штуки слышно не было. Может, они и были, но о них умело замалчивалось. Тем не менее, много друзей-приятелей Юры уже испытали это средство на себе и ничего, живые-здоровые.
Современная телепортация была, однако, основана на ликвидации человека целиком, в той точке, откуда он отправлялся. Несколько мгновений его на свете не жило вообще. И это было самое страшное в таком транспорте.
Вкратце и упрощённо это действо выглядело так: пассажира поатомно сканировал специальный фемтосканер, записывал в оперативную память компьютера все атомы по кирпичику, молекулы, ДНК, РНК, клетки, ткани, органы, конструкцию пассажира в целом, включая одежду и багаж, измерял все силовые поля внутри и прочую нужную информацию. Далее создавался специальный транспортный файл, делалась его копия, и человека аннигилировали, т. е. мочили тут же, на месте, мгновенно и безболезненно. Убийство происходило с помощью античастиц, которые посылались в конкретное место спецлазерами. Каждая человеческая элементарная частица встречала свою античастицу и происходила физическая аннигиляция того, что мгновение назад было пассажиром.
Далее, транспортные (или физиотелепортационные) файлы передавались по каналам специальной телепортационной сети в ОЗУ компьютера принимающей станции. Включались блоки синтеза – физиологические 3D-принтеры, мгновенно ваяющие из подручного материала все эти человеческие кирпичики на место, но уже географически в заказанном месте. Подручным материалом служила, как правило, местная глина. Человек выходил из приёмной кабинки таким же, каким вошёл в передающую.
Во всём этом процессе имелось одно необъяснимое пока науке звено. Его вывели отцы-основатели телепортации, американец Джереми Каретникофф и канадец Альбер Нагоню, чисто эмпирически, путём опытов на крысах и обезьянах. Дело в том, что неизвестным оставался путь того, что в разные времена называлось душой, духом, кармой и прочими эпитетами. Современное наименование этого понятия упростили и стали называть просто личностью.
Так вот. При телепортации личность следовала за телесной конструкцией автоматически, но только если временной интервал между аннигиляцией и началом восстановления составлял порядка три секунды, не больше. Если по какой-то причине этот промежуток увеличивался, то личность как-бы терялась где-то по пути, и телепортируемый мало того, что ничего не помнил, он ещё и ничего не умел. Ходить, говорить, слышать, видеть, и, самое главное, дышать. Подопытные животные при увеличенном интервале телепортации просто валились с ног как пьяные и через несколько минут умирали от апноэ, т. е. невыдачи мозгом команды на дыхательные движения, проще говоря, от удушья.
Но про такие случаи с людьми информации не было. Система работала сверхнадёжно и без особых сбоев. Известен лишь случай пропажи у пассажира с Фиджи зонтика из неизвестного науке материала, подаренного местными туземцами. И то, впоследствии, скан того предмета был тщательно изучен и синтезирован в точности. Вернули сувенир владельцу с почтительными извинениями за задержку.
Ну что ж… телепортируем как-нибудь, подумал Юра. Нынче, в двадцать шестом веке, иногда и самолёты падают. Редко, правда, раз в десять лет примерно, но падают. Телепортируем. | |
| Автор: | vonDorn | | Опубликовано: | 21.08.2017 17:38 | | Создано: | 2017 | | Просмотров: | 2630 | | Рейтинг: | 25 Посмотреть | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

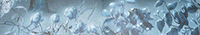
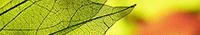
 Авторизация Авторизация Камертон Камертон
Перед нашим окном дом стоит невпопад, а за ним, что важнее всего, каждый вечер горит и алеет закат - я ни разу не видел его. Мне отсюда доступна небес полоса между домом и краем окна - я могу наблюдать, напрягая глаза, как синеет и гаснет она. Отраженным и косвенным миром богат, восстанавливая естество, я хотел бы, однако, увидеть закат без фантазий, как видит его полусонный шофер на изгибе шоссе или путник над тусклой рекой. Но сегодня я узкой был рад полосе, и была она синей такой, что глубокой и влажной казалась она, что вложил бы неверный персты в эту синюю щель между краем окна и помянутым домом. Черты я его, признаюсь, различал не вполне. Вечерами квадраты горят, образуя неверный узор на стене, днем - один грязно-серый квадрат. И подумать, что в нем тоже люди живут, на окно мое мельком глядят, на работу уходят, с работы идут, суп из курицы чинно едят... Отчего-то сегодня привычный уклад, на который я сам не роптал, отраженный и втиснутый в каждый квадрат, мне представился беден и мал. И мне стала ясна Ходасевича боль, отраженная в каждом стекле, как на множество дублей разбитая роль, как покойник на белом столе. И не знаю, куда увести меня мог этих мыслей нерадостных ряд, но внезапно мне в спину ударил звонок и меня тряханул, как разряд.
Мой коллега по службе, разносчик беды, недовольство свое затая, сообщил мне, что я поощрен за труды и направлен в глухие края - в малый город уездный, в тот самый, в какой я и рвался, - составить эссе, элегически стоя над тусклой рекой иль бредя по изгибу шоссе. И добавил, что сам предпочел бы расстрел, но однако же едет со мной, и чтоб я через час на вокзал подоспел с документом и щеткой зубной. Я собрал чемодан через десять минут. До вокзала идти полчаса. Свет проверил и газ, обернулся к окну - там горела и жгла полоса. Синий цвет ее был как истома и стон, как веками вертящийся вал, словно синий прозрачный на синем густом... и не сразу я взгляд оторвал.
Я оставил себе про запас пять минут и отправился бодро назад, потому что решил чертов дом обогнуть и увидеть багровый закат. Но за ним дом за домом в неправильный ряд, словно мысли в ночные часы, заслоняли не только искомый закат, но и синий разбег полосы. И тогда я спокойно пошел на вокзал, но глазами искал высоты, и в прорехах меж крыш находили глаза ярко-синих небес лоскуты. Через сорок минут мы сидели в купе. Наш попутчик мурыжил кроссворд. Он спросил, может, знаем поэта на п и французский загадочный порт. Что-то Пушкин не лезет, он тихо сказал, он сказал озабоченно так, что я вспомнил Марсель, а коллега достал колбасу и сказал: Пастернак. И кругами потом колбасу нарезал на помятом газетном листе, пропустив, как за шторами дрогнул вокзал, побежали огни в темноте. И изнанка Москвы в бледном свете дурном то мелькала, то тихо плыла - между ночью и вечером, явью и сном, как изнанка Уфы иль Орла. Околдованный ритмом железных дорог, переброшенный в детство свое, я смотрел, как в чаю умирал сахарок, как попутчики стелят белье. А когда я лежал и лениво следил, как пейзаж то нырял, то взлетал, белый-белый огонь мне лицо осветил, встречный свистнул и загрохотал. Мертвых фабрик скелеты, село за селом, пруд, блеснувший как будто свинцом, напрягая глаза, я ловил за стеклом, вместе с собственным бледным лицом. А потом все исчезло, и только экран осциллографа тускло горел, а на нем кто-то дальний огнями играл и украдкой в глаза мне смотрел.
Так лежал я без сна то ли час, то ли ночь, а потом то ли спал, то ли нет, от заката экспресс увозил меня прочь, прямиком на грядущий рассвет. Обессиленный долгой неясной борьбой, прикрывал я ладонью глаза, и тогда сквозь стрекочущий свет голубой ярко-синяя шла полоса. Неподвижно я мчался в слепящих лучах, духота набухала в виске, просыпался я сызнова и изучал перфорацию на потолке.
А внизу наш попутчик тихонько скулил, и болталась его голова. Он вчера с грустной гордостью нам говорил, что почти уже выбил средства, а потом машинально жевал колбасу на неблизком обратном пути, чтоб в родимое СМУ, то ли главк, то ли СУ в срок доставить вот это почти. Удивительной командировки финал я сейчас наблюдал с высоты, и в чертах его с легким смятеньем узнал своего предприятья черты. Дело в том, что я все это знал наперед, до акцентов и до запятых: как коллега, ворча, объектив наведет - вековечить красу нищеты, как запнется асфальт и начнутся грунты, как пельмени в райпо завезут, а потом, к сентябрю, пожелтеют листы, а потом их снега занесут. А потом ноздреватым, гнилым, голубым станет снег, узловатой водой, влажным воздухом, ветром апрельским больным, растворенной в эфире бедой. И мне деньги платили за то, что сюжет находил я у всех на виду, а в орнаменте самых банальных примет различал и мечту и беду. Но мне вовсе не надо за тысячи лье в наутилусе этом трястись, наблюдать с верхней полки в казенном белье сквозь окошко вселенскую слизь, потому что - опять и опять повторю - эту бедность, и прелесть, и грусть, как листы к сентябрю, как метель к ноябрю, знаю я наперед, наизусть.
Там трамваи, как в детстве, как едешь с отцом, треугольный пакет молока, в небесах - облака с человечьим лицом, с человечьим лицом облака. Опрокинутым лесом древесных корней щеголяет обрыв над рекой - назови это родиной, только не смей легкий прах потревожить ногой. И какую пластинку над ним ни крути, как ни морщись, покуда ты жив, никогда, никогда не припомнишь мотив, никогда не припомнишь мотив.
Так я думал впотьмах, а коллега мой спал - не сипел, не свистел, не храпел, а вчера-то гордился, губу поджимал, говорил - предпочел бы расстрел. И я свесился, в морду ему заглянул - он лежал, просветленный во сне, словно он понял всё, всех простил и заснул. Вид его не понравился мне. Я спустился - коллега лежал не дышал. Я на полку напротив присел, и попутчик, свернувшись, во сне заворчал, а потом захрапел, засвистел... Я сидел и глядел, и усталость - не страх! - разворачивалась в глубине, и иконопись в вечно брюзжащих чертах прояснялась вдвойне и втройне. И не мог никому я хоть чем-то помочь, сообщить, умолчать, обмануть, и не я - машинист гнал экспресс через ночь, но и он бы не смог повернуть.
Аппарат зачехленный висел на крючке, три стакана тряслись на столе, мертвый свет голубой стрекотал в потолке, отражаясь, как нужно, в стекле. Растворялась час от часу тьма за окном, проявлялись глухие края, и бесцельно сквозь них мы летели втроем: тот живой, этот мертвый и я. За окном проступал серый призрачный ад, монотонный, как топот колес, и березы с осинами мчались назад, как макеты осин и берез. Ярко-розовой долькой у края земли был холодный ландшафт озарен, и дорога вилась в светло-серой пыли, а над ней - стая черных ворон.
А потом все расплылось, и слиплись глаза, и возникла, иссиня-черна, в белых искорках звездных - небес полоса между крышей и краем окна. Я тряхнул головой, чтоб вернуть воронье и встречающий утро экспресс, но реальным осталось мерцанье ее на поверхности век и небес.
Я проспал, опоздал, но не все ли равно? - только пусть он останется жив, пусть он ест колбасу или смотрит в окно, мягкой замшею трет объектив, едет дальше один, проклиная меня, обсуждает с соседом средства, только пусть он дотянет до места и дня, только... кругом пошла голова.
Я ведь помню: попутчик, печален и горд, утверждал, что согнул их в дугу, я могу ведь по клеточке вспомнить кроссворд... нет, наверно, почти что могу. А потом... может, так и выходят они из-под опытных рук мастеров: на обратном пути через ночи и дни из глухих параллельных миров...
Cын угрюмо берет за аккордом аккорд. Мелят время стенные часы. Мастер смотрит в пространство - и видит кроссворд сквозь стакан и ломоть колбасы. Снова почерк чужой по слогам разбирать, придавая значенья словам (ироничная дочь ироничную мать приглашает к раскрытым дверям). А назавтра редактор наденет очки, все проверит по несколько раз, усмехнется и скажет: "Ну вы и ловки! Как же это выходит у вас?" Ну а мастер упрется глазами в паркет и редактору, словно врагу, на дежурный вопрос вновь ответит: "Секрет - а точнее сказать не могу". |
|