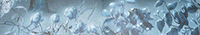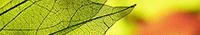Пеленгас (отрывок) | II
Бешеные стрижи носились по кругу со свистом, пикировали сверху. Даже воробышки выводили безумные трели, а не чирикали. Балкон, как гнёздышко, прилепленное к дому, и ты - тоже птица, наверное, маленькая ещё, раз в гнёздышке, чиркала ручкой в тетради, набирая размах крылатого почерка, ложась на неопытное крыло, учась летать. И вот облака окрасились закатным цветом. Какой это цвет? Розовый, бежевый, сереневый, бледнолиловый, серый? Тонкие переходы, переливания из одного в другой. И всё это на яркоголубом. И вот-вот это исчезнет, погаснет, пройдёт, будто и не было. И темно будет писать, и ночь заскулит, закутает, заплетёт мысли, и коли бы так, то хорошо, ведь ко сну. И вот ты убежала к нему, никуда не уходя. Просто подумала о нём. А закончится всё так же плачевно. Ты, как всегда, победишь, вы так же привыкнете друг к другу, всё повторится. Да убежала, потому что ты думаешь не обо мне. "Что пишешь"? - спросил таким тоном, что стало понятно, что интересует тебя это мало, вообще не интересует, я чувствую интонацию, как кошка, как собака. Я слишком чувствую. Законы любви скушны, но работают как часы. Завоевал, успокоился, бросился на новые бастионы. Или завоевал, успокоился, страсть потерял, получил обыденность, бытовуху. Или не бывает любви взаимной. Законы любви скушны. Но это так, любовные игры. Закон любви непостижим. Откуда такая жертвенность в ней, даже возможность отдать свою жизнь. Откуда это? Почему? Нельзя разгадать, постичь
эту тайну нельзя, это как цветок, разъедини его на чашелистики, лепестки, пестики, тычинки, но ничего не поймёшь, если это механизм, то очень тонок и сложен, сложнее часового, хотя и там чёрт ногу сломит у каждого, кроме часовщика.
Зачем тебе слова? Чего ты хочешь от слова? Выразить невыразимое. Описать реальность так, чтобы пульс жизни читался в сочетании слов, даже звуков, чтобы клокотали глаголы, пели прилагательные, существительные отрывистыми аккордами падали, причастные обороты шипели, наречия окали. И думаешь, думаешь постоянно. Так нельзя. Вдруг затихло всё в голове, успокоилось, теплота по телу разлилась, отдохновение, и через минуту опять ум щупает пространство, что там, неужели пустота? Что ты удивляешься, если бы ты занималась медитацией, было бы понятно всё в этой тишине, но ты работаешь со словом, оно для тебя средство, орудие, оттого мозг в недоумении от безмолствия, оттого постоянно мечется мысль, ищет, глаз цепляется, подмечает.
"Хочу тебя сердцем" - прошептала, притянулась к твоей грудной клетке, обняла и проросла. И понеслось сердечко вглубь, внутрь тебя, чтобы не улететь совсем, чтобы не выпорхнуть.
И слово "пеленгас" ты испортила, обидела, прекрасная рыба. А ты испортил пеленгас, потому что не хотел его готовить, как раньше, и не хотел готовить его с вином, как раньше, и он, пеленгас, получился невкусным. И всё уходит, и не болит, а уходит, только обиды глухие двери молчат.
Лебединая песня
Желудок квакал разгрузочным днём или скорее просто отсутствием аппетита. Сердце, зажатое в грудной клетке, трепетало, билось, плакалось.
Как осколок декаденства, как птичье перо - скорее селезня с яркими зелёными и чёрными прожилками, как твоя испарина и уже усталость, как не нужные упрёки и нужные слова, как лебединые плечики, чуть зажатые, спелёнутые, но так жаждущие распрямиться.
И уже разбивалась эта надежда о твоё неверие и отчаяние. Ничего не мочь, уже не мочь, только слезами биться в тебя, жаловаться.
Когда отдал больше, чем всё - и разорён. И это уже бесполезное суетливое хлопанье крыльями и дверями: прощай, прощай, курлы, курлы.
Куриный Бог
Росчерки перистых облаков, небесные фрактали, изгибы воздушных линий. То распласталась птица белокрылая по небосводу, клюв, перья, хвост обозначились, обмакнул небесный художник кисть, просто брызнул в сторону несколько штрихов, и снова ветер незаметно затейливо меняет рисунок, и не успеваешь заметить как. Облака, небесные жители, перистые, кучевые, как странно, разные, из чего они, из капельки воды - чудеса. От неба оторвалась; заболела камышками. Узоры замысловатые, как у древнего художника, или пористые в дырочку - аккуратные отверстия одно к одному, ты нашёл такие, заворожил ими и своими будущими кактусами. Камышки, камышки, так я соберу весь берег в сумочку, камышки собирать - наркомания, болезнь. Кто найдёт Куриного Бога - камышек с дырочкой - тому счастье. А ты нашёл, камень похож на череп, две глазницы, и в одном - просвет - отверстие то самое заветное. Думала подаришь, ан, нет, ты не знаешь, как мечтаю я о Курином Боге. "Найди мне тоже". "Держи этот". Плачу без слёз. Счастье.
"Горе тому, кто говорит в любви всё", кажется так, кажется Гёте. А я говорю, говорю, то в шутку, то всерьёз. Как уходит любовь? Сначала перестаёшь ревновать, потом перестаёшь обижаться, потом перестаёшь замечать. И существуют в одной квартире призраки, отражённый свет потерявшие, да и свой тоже, кому светить. И лишние все слова, и хочется молчать, потому что в словах лишь фальшь или память о прошлом. И вот мы молчим, как рыбы. И я последний пеленгас Вселенной. "Вселенных много" - вдруг говоришь ты. "Но такой, как ты, мне не найти".
Вот и дождались, вот и собеседник – воробышек присел на бельевую верёвку: «Чьи вы? Чьи вы?» Или пшена просит или сетует на нелёгкую жизнь. Пощебетали.
Согрешил – покайся. А если не согрешил? А если не прелюбодействовал, а любил? Такие странные вопросы приходят ко мне. Какой поп разберётся? Какой Бог простит, если всё же ударила по сердцу, да больно, да так, что не встать?
Безбожно красив. Божественно красив, я ещё понимаю. Но ты – безбожно, какой-то сатанинской красотой. Нельзя смотреть без ослепления, нельзя смотреть долго. Не буду. Буду смотреть на стенку, на ходики, не обернусь. Окриком оглоушил: «Это вторая пачка уже идёт? Ты совсем уже что ли»? И застыли загоревшие коленки, и заплели по ним кисти палантина узоры, и ты впилась в них, но не плакала, лишь сокрушалась, что с сигаретами сегодня всё. И вообще, всё, всё, хватит тебя мучить, хватит меня спасать. Ибо ничего меня не остановит, туда, туда, в дурман, в дым, в яд, в смерть.
Она решила его бросить, окончательно и навсегда. Этот сраный андроид, что он подарил, решила оставить себе. Мужчины, которые не справлялись со своим аппаратом, мало её привлекали. Измены его она видела на астральном плане и когда говорила ему об этом, выглядела полной дурой, вернее, он её так выставлял. Его любовь она тоже чувствовала очень чутко, сердцем, душой, своими слезами отзывалась на неё, но боль и обида были сильнее.
Навсегда. Никогда. Ирунда.
Все слова, всё слова, голова
Не решает вполне о душе,
О тебе, обо мне, о волне,
Что смывает тебя и меня.
Навсегда. Никогда. Ирунда.
Ты вышел из моря, лёг на камни, губами собрала с твоей шеи слезинки солёные моря и сказала вдруг: "Хочу". "Прямо здесь"? Вокруг телесным цветом теснились утёсы, огромные камни загораживали этот неземной уголок, море прозрачное, прозрачней не бывает квакало лягушкой у ног, ты сразу сказала, здесь морская лягушка, потом ушла за камни слева, там был город Евы, только ты, камни и никого, бродила, потом позвала меня, взяла за руку и водила по своему городу, как Адама. По Евиным городам бродит Адам. Потом встали на один камень лицом к морю, стояли обнявшись, друг друга и ветер. Потом вернулись, обедали, жевали бутерброды, пришла собака, кормили собаку, пришла кошка, кормили кошку. Но здесь всё равно были люди, справа, дальше загорала девица, пялилась на нас и подслушивала. Ия замечала твой взгляд, туда. направо. Захотелось уйти и вскоре пошли, по самой длинной в Крыму лестнице в восемсот ступеней. Поднимались стемительно, с одышкой даже, в кустарник ушёл переодеться, опять поднимались, долго, собирали тебе можжевельник для водочной настойки. "Забыл трусы, мокрые, вернусь, ведь ты подарила, так бы бросил, вернусь". Ты вернулся мгновенно на то место, где мы лежали, где я сказала: "Хочу". А ты: "Прямо здесь"? Она оказалась в твоих объятьях на миг совокупления, та девица, что загарала справа. Я дернулась от боли. Ты опять стал подниматься по ступенькам и скоро появился. "Что опять случилось"? - отозвался ты на мой оледевший взгляд. Я больше говорить не хотела. А ночью ты плакал, когда я тебе всё рассказала, и снова подарил мне море мыса Фиолент, и я снова собирала его губами с твоей ключицы.
III
А я не люблю сражаться,
А я не люблю бороться,
И место своё под солнцем
Уже не ищу.
Маринка всплеснула руками. «Мне нравиться Ваш стиль» - кивнула она мне «сквозь сумерки городов». Себя цитирую. «Ребята, мне их так жаль», - это она о нас, провинциалах. «Ребята, мне их так жаль, мы тут весь Арбат, блин, обарбатили современным изуззством», - дразнюсь я. «А они и не знают ничего, бедненькие, не разбираюцся в современном изкуззстве. Марина Батутина урождённая москвичка, шибко горда своим происхождением. В стихах упрямо и бескомромиссно заявляет, что отдаётся с горя и лётчикам, и пилотам. Мы тоже может с горя отдаёмся и лётчикам, и пилотам, но как-то стесняемся об этом в открытую писать, но она же коренная москвичка, а мы ну ничего не понимаем в современном искусстве. Нас можно простить, мы люди отсталые. Маринка долго ухаживала за бабушкой, но бабушка её так истомила (долго, слишком долго претворялась умирающей и мешала Маринке с горя беззастенчиво отдаваться лётчикам и пилотам), что Маринка в одно прекрасное утро подкралась к ней с молоточком, деревянным, конечно, чтобы больших вмятин на черепе не было. И устроила пышные проводы любимой бабушке. Я плачу. Возможно, я чересчур зла к госпоже Батутиной, и есть вещи, смеяться над которыми – грех, но несколько надсажает душу её имперское мышление, не столичное, повторяю, а именно имперское. Я не думаю, что госпожа Батутина знает о Балакиреве более меня, думаю, что тоже ничего не знает, но именно сейчас, сию минуту бросится изучать его биографию и слушать его сочинения. «Пальца гнуть» будет одновременно. Я плачу.
Дальше идут приключения одного джентльмена в Москве. Зачем это я? Душу себе рвать? Но, господа, как говорят по латыни сведущие люди «Истина безжалостна». Господин был продюсером, вернее всегда им мечтал стать, но всё время делал ставки не на тех коней. Девочки всегда его подводили, не было в них верности, чёрт подери, и он всегда оставался у разбитого корыта. А тут он нашёл провинциалку, жизнью избитую, но талантливую, долго проверял её верность, в её верности убедился, и начал делать на ней бабки, бабки очень неплохие, девице этой он, правда, об этом не сообщал, держал её в чёрном теле. Потом вообще решил не перевозить её в Москву, пусть она томиться там, в «забытой Богом Сибири», а я тут буду на лаврах её любви соблазнять ближнюю свою, да книжонками её приторговывать. Однажды девушка взвыла при встрече: «Ты не нажимаешь на кнопки, ты даже не нажимаешь на кнопки, тебе настолько безразлична я, и ты не хочешь меня фотографировать, что даже не нажимаешь на кнопки». Девушку тут же истерично убедили, что у неё нет слуха. Ты слишком хорошо, господин хороший, нажимаешь на кнопки моей души и сердца, я защищаю тебя от смерти каждой капелькой своей крови и нервов, а потом ты выёбываешь моё сердце у меня на глазах с какой-нибудь Мариной Батутиной, урождённой москвичкой. Но Лермонтов, он и тут на страже: «… в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места»…
Твоё одиночество хмурое и хромое,
Горькое и холодное, как водка в запотевшей бутылке,
Пересиди один,
Пусть бесы коснутся тебя холодеющими руками,
Галактическая пыль застрянет в горле, —
Ничего не достать, не потрогать,
Потом говори или промолчи мне что угодно,
Но ты будешь хотя бы выбирать слова и выдохи
на краю этой бездны.
И вот ты пришёл, порыдал над своей жизнью, потому что смерть кралась за тобой, смерть жестокая и страшная, а мои глаза выплаканы, мои паутины порвались, и я не хочу ловить тебя в свой парашютик, пусть тебя ловит твой батутик, он мягкий и грудастый, не то что я - анорексийный скелет. Мы прощаемся очень долго, наверное, никогда не простимся, я что-то в тебе полюбила, что-то очень высокое, что предать я не могу, но предам, потому что боль сильнее, и ты предашь, потому что боль сильнее, и смерть всё дальше и недостижимее, и остаётся только мука, и ты опять вернёшься, чтобы просто посидеть со мной в тишине, послушать тишину, потрогать тишину и покой. А у меня исчезает сердце, совсем уходит, я говорила тебе, что перестану себя уважать, если буду писать только из любви к искусству, и я теряю себя, теряю сострадание к тебе, и остаются эти мёртвые буквы и протокольный холодный стиль, а меня нет. Я осталась где-то с тобой, в твоей мелодии, в твоих последних слезах обо мне. Вот смотрю абзац, он короче, чёрт подери, чем бы мне хотелось. А тебе уже прибивают руки к столбу, они хотят новый фильм об Иисусе Христе, только настоящий, в живую, с настоящим корченьем твоим на кресте. И мне снова больно, и я глотаю снотворное пачками. И, наверное, скоро усну. Или посмотрю твои упражнения на Батуте, поскольку про снотворное это я так, приврала.
Да нет, не так чтоб очень многих я любил…
Осталась ночь.
На белой простыне усталый снег.
И сон простыл, как запрещённый кофе на ночь.
А время выбирало нас, чтоб без остатка обесточить
И в сонме многоточий запутать…
Да нет, не так чтоб очень многих я любил… | |