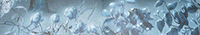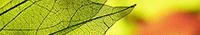|

Брак - это лихорадка, которая начинается жаром, а кончается холодом (Гиппократ)
Поэзия
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
Свое небо с человеческим лицом | Слезы сердца превратились в камни
Камнепад того гляди завалит
Равнодушье и жестокость ранит
И от чужой злости так устал я
Больно понимать свою эпоху
Видя их безумство и кривлянье
Где народ холоп...а власти боги
И опять проблемы встали в кучу
Ждали пока выйду с параллели
Жизнь-тарзанка каждый прыгнет с кручи
Но не все останутся живыми
Многие сломались пока вниз летели
Изломали беды мою душу
И боль до сих пор в стихи стекает
Надо верить и надеяться на лучшее
Но нельзя сидеть и ждать удачу
Тот, кто видит цель тот достигает
Ох уж это нам самовнушенье
Чуть поддался и тогда гляди
И в душе как кораблекрушенье
И живем мы с пустотой в груди
То, что караулили, в итоге прозевали
И нашли вдруг то, что не искали
Мелких радостей не замечаем
И живем без чувства что живем
Не творим не пишем не читаем
Включим музыку и не поем
От безделья своего скучаем
А как станет тяжко...водку пьем
Отболели мы душой немерено
Отойти мы до сих пор пытаемся
Близко все мы принимаем к сердцу
От того мы внутренне взрываемся
Что вдали нам видится зовущим
То вблизи меняет очертанья
Навсегда отталкивая душу
Умножая общие страданья
Ничему нас жизнь не научила
Впереди слепая неизвестность
Позади след памяти нас мучит
Впереди опять плохие вести
Не одеть пальто воспоминаний
Давит, жмет и колет наши души
И пустует взрослое сознанье
Ведь мудрец внутри нас не разбужен
Сложенные штабелями планы
И мечты, заросшие травою
Все здесь на своей волне незнанья и обмана
Трудно с места сдвинуть лень как камень
И подумать крепко головою
Нужное не прятать в шкафу сердца
Научиться время свое видеть
И включить свой разум до предела
Трудно жить, чтоб близких не обидеть
Не глушить подаренное свыше
Научиться сердце свое слышать
Начинается все там, где ты воскрес
Там, где ты берешь свой божий крест
Покидая зону дураков
Смысла нет и дальше разбивать
Вновь об них костяшки кулаков
Ум незрел расти им и расти
Но хотят все умными казаться
Им до мудрости не догрести
До вершин добра им не подняться
...Тот кто хочет сам себя спасти
Должен с суетой ума расстаться
Потому что глупость словно вирус
Все плохое в людях пробуждает
И плохие гены тоже минус
Черноту натуры умножают
Время растекается кругами по душе
Мысли треугольные летят осколочной гранатой
Круче жизни все равно ты не придумаешь сюжет
Вытекает свет из тела сломанным гранатом
Когда мы идем в немую вечность по земным канатам
Смерть нас ангажирует на жизнь
И вешает абстрактные плакаты
Мы на месте на своем посту
Но никто кроме себя нас не тревожит
Чуем мы звериным нюхом адский шабаш
Шепот, топот, адский порох за версту
Видим след, посыпанный кристальной ложью
Не войдет никто чужой в наш близкий круг
По душам поговорить не сможет
Ведь у всех есть своя головная боль
И головоломку бытия, мало кто здесь разгадать поможет
Люди это странные созданья
Разбивают жизнь свою с размахом
Ох покуролесили на славу
Веник разума и веры с подсознанья
Выметает сор греха и страха
Чтоб не сделать над собой расправу
Мир наш состоит из равновесья,
Из гармоний и великих правил
Чего больше в нас то перевесит
То, что в час недобрый нами правит
Кто- то умирает молодым
Просто не успев дозреть сознаньем
Не успев дойти до пониманья
Если бы до мудрости дожил
Он на эти беды пустяки
Просто бы не обратил вниманья
Думай чаще чем садишься есть
И решая все вначале взвесь
Чтобы твоих мыслей молоко
Не прокисло в суете легко
Кто- то в силах дни просеять через вечность слова
Кто- то наплевал на все основы
Пьет грех словно мед и пишет кровью
Кто- то хочет весь спектакль жизни за день проиграть
И умчаться за кулисы смерти
Каждый должен сердцем выбирать
Что оформит его жизнь земную
Каждый ищет не жену, а мать
Каждый ищет душу, добрую и чистую верную, родную
Чтоб могла таким как есть принять
Все нуждаются в опоре и внимании
Все нуждаются в любви и понимании
...Только один Бог здесь все решает
Сколько человечеству страдать
...Кто там был и видел, и вернулся
И сказал, что на том свете благодать
Вбей свой клин в беду и за мечту держись
Отвяжись от темноты, к которой ты привык
Знаю тяжело ...хоть умирать ложись
И душа срывается на крик
Тогда не сорвешься, не напьешься
И пойдешь небесным полем
И напьешься звездами и душевной волей
Ничего что есть здесь, кроме внутреннего света
Что рождает мудрость и добро
На том свете нам не пригодится
Ведь любовь-душевное ядро
Пустят лишь за край небесный в царство Бога
Только тех, кто внутренне здоров
Новое рождается не сразу
Нужно чтобы общество созрело
Мир погряз в безумье и экстазе
И душа земная заболела
Перебита главная артерия
И теперь земля уже на грани
И трещит по швам первоматерия
Разломать и сжечь все нас так манит
Где то есть вселенная астральная
Мы живем в своей материальной
Наша плотная и визуальная
Солью растворяется материя
Пребывая в новом состоянии
...Времена прошли, но видим битвы
Никуда они не исчезают
И на пленке жизни остаются
Иногда реальность прорезая
Миражами в мире проявляясь
Все здесь отпечаток оставляет
Только знать бы, где нам все увидеть
Где же тот проектор, что прокрутит
Нам нашу историю сначала
Чтобы знать все то, что нас меняет
В памяти земли все остается
Только знать бы, где архив небесный
Чтоб достать что нам необходимо
Чтоб достать что в руки не дается
Чтоб занять по праву свое место
Значит Бог веселый скоморох
Если он придумал человека
Сгусток-колобок из слез и смеха
Полный жизни как литой горох
Наши страхи -это наши страхи...
Но Страх в нас заложенный Творцом
Каждый выбирает свою плаху
И свое небо с человеческим лицом | |
| Автор: | ROKKI | | Опубликовано: | 09.09.2021 14:57 | | Просмотров: | 383 | | Рейтинг: | 0 | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

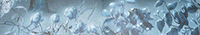
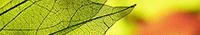
 Авторизация Авторизация Камертон Камертон
Перед нашим окном дом стоит невпопад, а за ним, что важнее всего, каждый вечер горит и алеет закат - я ни разу не видел его. Мне отсюда доступна небес полоса между домом и краем окна - я могу наблюдать, напрягая глаза, как синеет и гаснет она. Отраженным и косвенным миром богат, восстанавливая естество, я хотел бы, однако, увидеть закат без фантазий, как видит его полусонный шофер на изгибе шоссе или путник над тусклой рекой. Но сегодня я узкой был рад полосе, и была она синей такой, что глубокой и влажной казалась она, что вложил бы неверный персты в эту синюю щель между краем окна и помянутым домом. Черты я его, признаюсь, различал не вполне. Вечерами квадраты горят, образуя неверный узор на стене, днем - один грязно-серый квадрат. И подумать, что в нем тоже люди живут, на окно мое мельком глядят, на работу уходят, с работы идут, суп из курицы чинно едят... Отчего-то сегодня привычный уклад, на который я сам не роптал, отраженный и втиснутый в каждый квадрат, мне представился беден и мал. И мне стала ясна Ходасевича боль, отраженная в каждом стекле, как на множество дублей разбитая роль, как покойник на белом столе. И не знаю, куда увести меня мог этих мыслей нерадостных ряд, но внезапно мне в спину ударил звонок и меня тряханул, как разряд.
Мой коллега по службе, разносчик беды, недовольство свое затая, сообщил мне, что я поощрен за труды и направлен в глухие края - в малый город уездный, в тот самый, в какой я и рвался, - составить эссе, элегически стоя над тусклой рекой иль бредя по изгибу шоссе. И добавил, что сам предпочел бы расстрел, но однако же едет со мной, и чтоб я через час на вокзал подоспел с документом и щеткой зубной. Я собрал чемодан через десять минут. До вокзала идти полчаса. Свет проверил и газ, обернулся к окну - там горела и жгла полоса. Синий цвет ее был как истома и стон, как веками вертящийся вал, словно синий прозрачный на синем густом... и не сразу я взгляд оторвал.
Я оставил себе про запас пять минут и отправился бодро назад, потому что решил чертов дом обогнуть и увидеть багровый закат. Но за ним дом за домом в неправильный ряд, словно мысли в ночные часы, заслоняли не только искомый закат, но и синий разбег полосы. И тогда я спокойно пошел на вокзал, но глазами искал высоты, и в прорехах меж крыш находили глаза ярко-синих небес лоскуты. Через сорок минут мы сидели в купе. Наш попутчик мурыжил кроссворд. Он спросил, может, знаем поэта на п и французский загадочный порт. Что-то Пушкин не лезет, он тихо сказал, он сказал озабоченно так, что я вспомнил Марсель, а коллега достал колбасу и сказал: Пастернак. И кругами потом колбасу нарезал на помятом газетном листе, пропустив, как за шторами дрогнул вокзал, побежали огни в темноте. И изнанка Москвы в бледном свете дурном то мелькала, то тихо плыла - между ночью и вечером, явью и сном, как изнанка Уфы иль Орла. Околдованный ритмом железных дорог, переброшенный в детство свое, я смотрел, как в чаю умирал сахарок, как попутчики стелят белье. А когда я лежал и лениво следил, как пейзаж то нырял, то взлетал, белый-белый огонь мне лицо осветил, встречный свистнул и загрохотал. Мертвых фабрик скелеты, село за селом, пруд, блеснувший как будто свинцом, напрягая глаза, я ловил за стеклом, вместе с собственным бледным лицом. А потом все исчезло, и только экран осциллографа тускло горел, а на нем кто-то дальний огнями играл и украдкой в глаза мне смотрел.
Так лежал я без сна то ли час, то ли ночь, а потом то ли спал, то ли нет, от заката экспресс увозил меня прочь, прямиком на грядущий рассвет. Обессиленный долгой неясной борьбой, прикрывал я ладонью глаза, и тогда сквозь стрекочущий свет голубой ярко-синяя шла полоса. Неподвижно я мчался в слепящих лучах, духота набухала в виске, просыпался я сызнова и изучал перфорацию на потолке.
А внизу наш попутчик тихонько скулил, и болталась его голова. Он вчера с грустной гордостью нам говорил, что почти уже выбил средства, а потом машинально жевал колбасу на неблизком обратном пути, чтоб в родимое СМУ, то ли главк, то ли СУ в срок доставить вот это почти. Удивительной командировки финал я сейчас наблюдал с высоты, и в чертах его с легким смятеньем узнал своего предприятья черты. Дело в том, что я все это знал наперед, до акцентов и до запятых: как коллега, ворча, объектив наведет - вековечить красу нищеты, как запнется асфальт и начнутся грунты, как пельмени в райпо завезут, а потом, к сентябрю, пожелтеют листы, а потом их снега занесут. А потом ноздреватым, гнилым, голубым станет снег, узловатой водой, влажным воздухом, ветром апрельским больным, растворенной в эфире бедой. И мне деньги платили за то, что сюжет находил я у всех на виду, а в орнаменте самых банальных примет различал и мечту и беду. Но мне вовсе не надо за тысячи лье в наутилусе этом трястись, наблюдать с верхней полки в казенном белье сквозь окошко вселенскую слизь, потому что - опять и опять повторю - эту бедность, и прелесть, и грусть, как листы к сентябрю, как метель к ноябрю, знаю я наперед, наизусть.
Там трамваи, как в детстве, как едешь с отцом, треугольный пакет молока, в небесах - облака с человечьим лицом, с человечьим лицом облака. Опрокинутым лесом древесных корней щеголяет обрыв над рекой - назови это родиной, только не смей легкий прах потревожить ногой. И какую пластинку над ним ни крути, как ни морщись, покуда ты жив, никогда, никогда не припомнишь мотив, никогда не припомнишь мотив.
Так я думал впотьмах, а коллега мой спал - не сипел, не свистел, не храпел, а вчера-то гордился, губу поджимал, говорил - предпочел бы расстрел. И я свесился, в морду ему заглянул - он лежал, просветленный во сне, словно он понял всё, всех простил и заснул. Вид его не понравился мне. Я спустился - коллега лежал не дышал. Я на полку напротив присел, и попутчик, свернувшись, во сне заворчал, а потом захрапел, засвистел... Я сидел и глядел, и усталость - не страх! - разворачивалась в глубине, и иконопись в вечно брюзжащих чертах прояснялась вдвойне и втройне. И не мог никому я хоть чем-то помочь, сообщить, умолчать, обмануть, и не я - машинист гнал экспресс через ночь, но и он бы не смог повернуть.
Аппарат зачехленный висел на крючке, три стакана тряслись на столе, мертвый свет голубой стрекотал в потолке, отражаясь, как нужно, в стекле. Растворялась час от часу тьма за окном, проявлялись глухие края, и бесцельно сквозь них мы летели втроем: тот живой, этот мертвый и я. За окном проступал серый призрачный ад, монотонный, как топот колес, и березы с осинами мчались назад, как макеты осин и берез. Ярко-розовой долькой у края земли был холодный ландшафт озарен, и дорога вилась в светло-серой пыли, а над ней - стая черных ворон.
А потом все расплылось, и слиплись глаза, и возникла, иссиня-черна, в белых искорках звездных - небес полоса между крышей и краем окна. Я тряхнул головой, чтоб вернуть воронье и встречающий утро экспресс, но реальным осталось мерцанье ее на поверхности век и небес.
Я проспал, опоздал, но не все ли равно? - только пусть он останется жив, пусть он ест колбасу или смотрит в окно, мягкой замшею трет объектив, едет дальше один, проклиная меня, обсуждает с соседом средства, только пусть он дотянет до места и дня, только... кругом пошла голова.
Я ведь помню: попутчик, печален и горд, утверждал, что согнул их в дугу, я могу ведь по клеточке вспомнить кроссворд... нет, наверно, почти что могу. А потом... может, так и выходят они из-под опытных рук мастеров: на обратном пути через ночи и дни из глухих параллельных миров...
Cын угрюмо берет за аккордом аккорд. Мелят время стенные часы. Мастер смотрит в пространство - и видит кроссворд сквозь стакан и ломоть колбасы. Снова почерк чужой по слогам разбирать, придавая значенья словам (ироничная дочь ироничную мать приглашает к раскрытым дверям). А назавтра редактор наденет очки, все проверит по несколько раз, усмехнется и скажет: "Ну вы и ловки! Как же это выходит у вас?" Ну а мастер упрется глазами в паркет и редактору, словно врагу, на дежурный вопрос вновь ответит: "Секрет - а точнее сказать не могу". |
|