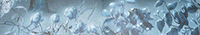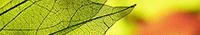|

Жизнь слишком скоротечна, чтобы устраиваться в ней так основательно, так всерьез (Михаил Зощенко )
Бред
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
| из цикла "Полуденное божество" | Музыка, которую никто не слышит | 2011
…есть иволги в лесах, и гласных долгота в тонических стихах единственная мера, но только раз в году бывает разлита в природе длительность, как в метрике Гомера…
…на тротуарах было скользко, и ветер воду рвал, как вретище, и можно было до Подольска добраться, никого не встретивши…
Музыки нет. Её нет даже на несимметричной опушке парка, где чёткие чёрточки и косые тиканья птиц пытаются выровнять глухоту и рваньё нищенских огородов за земляною плотиною, и мозаику побегушек на дальнем шоссе. Музыка превращается в легенду о динозавре, отодвигаясь от полированных концессий и химической графики, от дисциплины финансирования и чудной раскованности объявленных гениев. Её нет даже в глагольном чреве скрипки – там остался один резонанс, и даже младенческая дымка ранней листвы молчит упрямо в смычковых и шестнадцатидольных дебрях предпарковых бережков. Музыка лишилась случайности однажды – и тут же исчезла из ландшафта, как не было. Разве только – из черного стерженька, давно когда-то сверченного в Таиланде, с магнитным шорохом термитника подползёт, кружась, сладковатый поясок колдовства: чи-чи-чи-чанн... – и, не в силах уже сдерживать ломку, втиснешь алчущий слух в наушнички, оставив снаружи сгорбленное подобие своего отражения – отзываться досужим голосам. Так делается: вдохнул подлиннее, сморщился и – вниз, сорок минут со вдавленными глазами проталкиваешь невесомый слух в глубину, за раковиной... но и на глубине молчания музыки нет, потому что возврат неизбежен.
Та, давняя, музыка ушла уже, а ты всё танцуешь под память свою…
Сумасшедший – это человек, танцующий под музыку, которую слышит только он один.
Пожевав губой и щипнув себя за бровь, смотрит мимо куда-то, в пространство великих облачных образований, дальше, дальше... постукивает пальцем, хмурится... Что на уме у него, какие механизмы переводят стрелки в планах его и комбинациях упрощённых миров и событий?
Дождь... дождь... Октябрь месяц – и остатки мелкой не пожелтевшей листвы действительно похожи на точечную скоропись поперёк таблиц и графлёных бланков, пустых таблиц уснувших деревьев. На следующий год они так же плотно будут забиты мясом свежей листвы, ничего не изменится на следующий год, хотя и листва будет другая, и мы не те, и мир накопит чуть больше символов. Но всё останется на своих местах.
Оглохший мир не перестаёт менять времена года, хитиновые спинки так же сутуло тычутся тем, что – голова, в углы нарисованных обстоятельств, ибо музыки нет даже там, где она – финансовый факт. Гонорар виолончелиста отключает звук – за деньги можно было бы и повеселее!.. да и стоит ли маленькая галактика этих денег? Самые красивые в мире утопленники ведут хоровод в глубоководном сиянии оркестра, а над вогнутым мениском слуха – никого, топот балерин по деревянному воздуху просцениума способен свести с ума: нет музыки, балерины – на поводочке, звуки не стоят денег, а попискивание электроники сообщает морзянкой о пище… усики, лапки, хитин и сухие подкрылия. Осязание связано с шорохом, попискиванием и легчайшим топотком: не туда, не туда, не туда...
Но есть поэзия, которая вносит хаос в явления миров и графы расчленяет на шестнадцатидольники, взглянувши назад огромным, уставшим глазом уходящего чудовища…
Когда-нибудь здесь не останется ни одного динозавра, время идёт неостановимо, другие чудеса заведёт мир, а может быть и завёл уже, а ты всё танцуешь под память свою – странно!
…с полу, звездами облитого, к месяцу, вдоль по ограде тянется волос ракитовый, дыбятся клочья и пряди…
А ты всё ещё не можешь остановиться! Это – леность, скажем тревожно – да!
…жутко ведь, вея, окутывать дЫмами Кассиопею! Наутро куколкой тутовой церковь свернуться успеет…
Поиск наикратчайших формул для хранения наибольшего количества информации приводит к философии. Поиск наидлительнейшего выражения чувства приводит к музыке, где единый миг может продолжиться потом на всю партитуру жизни.
И всё из-за того, что музыка лишена первородного греха поэзии – она не переименовывает, она не связана со словом.
Поймите – это не нарошно, это – надо так, это – самое устойчивое состояние, отрывочность... дверей много, коридоры запутаны, а сосредоточенность – одна из форм безумия, между нами... Выход где-то рядом, надо просто пробовать: сворачивайте, перебегайте, дробите... Только не живите там, как в доме родном, не привыкайте! Лабиринт – это живое существо, а может быть даже и симбиоз великого множества живых и умерших существ! Надо всё время искать выход – однажды лабиринт шевельнёт своим брюхом и всё придётся начинать сначала!
…по заборам бегут амбразуры, образуются бреши в стене, когда ночь оглашается фурой повестей, неизвестных весне. Без клещей приближенье фургона вырывает из ниш костыли только гулом свершенных прогонов, подымающих пыль издали. Этот грохот им слышен впервые. Завтра, завтра понять я вам дам, как рвались из ворот мостовые, вылетая по жарким следам. Как в росистую хвойную скорбкость скипидарной, как утро, струи погружали постройки свой корпус и лицо окунал конвоир…
А вобщем-то, музыке не нужны слушатели. И поэзии не нужны читатели. Так утверждали сочиняющие, кокетничая немилосердно. Музыке нужен лабиринт – соглашались мы со сдержанным осуждением. Слушатель, а, значит, и читатель – добавим, тяжёл и гладок, словно камень – добавим, подразумевая при этом нечто иное, подразумевая Вселенную, не имеющую энергии для самовскрытия. Обернув метафору к себе затылком, говорили мы раздумчиво: «Читатель (если говорить о нём) есть упырь, выходец из иного, внешнего (а, стало быть, потустороннего), мира. Он жаждет насыщения, а не оживления, к тому же набит достаточно туго трюизмами, драгоценными подлинностью своею, но именуемыми интегрально – пошлость».
…я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях срезанных, с прозрачными играть. В беспамятстве ночная песнь поется. Не слышно птиц. Бессмертник не цветет. Прозрачны гривы табуна ночного. В сухой реке пустой челнок плывет. Среди кузнечиков беспамятствует слово…
Поэзия – это музыка, которую уже не слышат, разбирая еженедельный завал чердака; музыка, которая, как дождь, мешает клювообразной строгости расчёта сумм и событий. Она – только, как мантия избранных, отсвечивала когда-то на праздник, но – это музыка, которая не нужна.
…представьте дом, где пятен лишена и только шагом схожая с гепардом, в одной из крайних комнат тишина, облапив шар, ложится под бильярдом. А рядом, в шапке крапчатой, декабрь висит в ветвях на зависть акробату и с дерева дивится, как дикарь, нарядам и дурачествам Арбата.…
Причём тут смысл?
«Поэт иногда бормочет великие истины, однако же, истины эти имеют смысл только в гравитации одного единственного мира – лабиринта его души» – добавляли мы, осердясь...
«Но душа-то, – восклицал разочарованный оппонент, – ведь отражает законы этого вашего внешнего мира, она – часть его, она же потому-то и имеет ценность непреложного доказательства, что всё равно – продукт нашего с вами пространства, всё равно – уменьшенная копия мира. Неужто ж не восприимчив этот непрерывный, от мира пошедший, спектакль, неужто ж бесконечный механизм таинственного замка с башенками обманет несбыточным, если вырос он из тех же молекул и не отъединим от вас от всех – попробуйте, оторвите!..»
И мы посейчас склоняем голову, покорствуя безусловному: «Да, да... сопредельны нам туманные сии громады, хотя и подозреваем вылетающих оттуда (винюсь... винюсь...) в нематериальности».
Нету там никаких молекул.
...ночи на щёлканье славок проматывать...
Переделкино, дача, незадымлённые равнины, заражённые бесшумной, терпеливой чумою сопричастности, могучий зверь воображения, шевелящий полотнища, и – такси до обжитого столичного лабиринта с удобствами. Чушь, дичь, другая планета...
...укладка рельс по ту сторону разума, в воображаемых равнинах... отличал ли он текст от реальности? Если выжил, значит отличал...
...у него не было ничего, кроме абсолютного зрения...
...Маргаритиных стиснутых губ лиловей...
И хватка – жесточайшая, но божественная абсолютной гармонией мускулатуры
...горячей, чем глазной Маргаритин белок, бился, щёлкал, царил и сиял соловей...
Но вечною загадкой останется теперь, что за весть легла под створку, в мякоть воображения, корявою и твёрдою крупинкой и всю жизнь мучила его, обрастая и обволакиваясь драгоценной известью его беспокойства.
...я сплю под шум, месящий глину, как только в раннем детстве спят...
Что истинно: мгновенное мелькание лица или панорама личности?
Коммунальный бедлам с санузлом, мелкими пакостями жизни и удовольствием от мозговой косточки, или же результат молчаливого года?
...я взят в ученье к исполину...
...как только в раннем детстве спят...
Одно выкарабкивается из другого и не может более ни откуда выкарабкиваться. Малярийные болота и недружественные леса, зыбкие скалы и мёртвые пещеры сложат собою картину величественную. Оглянувшись, увидишь прекрасный мир, единую молекулу природы, смысл гравитации, который есть – ландшафт.
…так открываются, паря, поверх плетней, где быть домам бы, внезапные, как вздох, моря. Так будут начинаться ямбы…
Знал ли он, в каком мире живёт?
Он жил в этом мире, и тому есть доказательства. Он умер, а мы всё ещё можем заглянуть ему в лицо.
И другая жизнь – бездомная, голодная, по углам растасканная… Только музыка, кинувшись столбом пыли навстречу, из-за угла, вздует полу пиджака, воплем очевидности выломает кус пространства – и он поползёт, оползень этот невыносимый, поползёт неторопливо вниз, с места своего, ужасом наполняя душу: вот оно, вот! И – стихнет. И – остановится. И только тоненькое завывание флейты будет слышно ещё полчаса – надо успеть внести всё это в хранилище. Бегом, бегом, бегом.
…слух чуткий парус напрягает, расширенный пустеет взор, и тишину переплывает полночных птиц незвучный хор…
Знал ли он, в каком мире живёт? Нет, разумеется! Потому и раздавлен был тем, что не остановилось однажды, вырванное.
…кто веку поднимал болезненные веки – два сонных яблока больших – он слышит вечно шум, когда взревели реки времен обманных и глухих.
Два сонных яблока у века-властелина и глиняный прекрасный рот, но к млеющей руке стареющего сына он, умирая, припадет...
Но он жил в этом мире, и тому есть доказательства. Он умер, а мы всё ещё можем заглянуть ему в лицо.
И вы понимаете – не жестокость, а бесконечная усталость в морщинистых веках читающего. Сколько можно не спать? Он и так уже знает больше, чем хотелось бы создателям единственного театра, он знает, в каком из коридоров кончается лабиринт, он знает, что Замок Поющих Стен растворится в воздухе, едва возьмёшь в руку грузное бронзовое кольцо с клювом. Он знает, что нужен махоньким человечкам внутри многокрылой машины грёз, он прочёл однажды на сыром колодезном срубе, что источник пересохнет, коли не черпать из него.
И он отворачивается...
И начинает говорить, что нету там никого внутри, это только – слова, слова, слова. Эта музыка не слышна никому, а ты танцуешь под взглядами прохожих – стоп! Ты – нормальный человек, ты имеешь рассуждение и смысл, ты – работник! Зачем же шутовство и необъяснённость – стоп! Там пусто – посмотри! Пыль и мусор, песок и камни… Где ты увидел море? Посмотри ещё раз!
…графленая в линейку десть! Вглядись в ту сторону, откуда нахлынуло все то, что есть, что я когда-нибудь забуду. Отрапортуй на том смотру. Ударь хлопушкою округи. Будь точно роща на юру, ревущая под ртищем вьюги. Как разом выросшая рысь, всмотрись во все, что спит в тумане, а если рысь слаба вниманьем, то пристальней еще всмотрись...
Нету, нету там никаких молекул, а есть дым от костра, сложенного за огородом, и печаль осин там, за полем, под небом облачным и ледяным.
...и он отворачивается, когда многоярусный и многокрылый корабль снимается с голой земли и улетает туда, к далёким берегам весёлой страны оранжевых каньонов и циклопических игрушек, туда, где кормят поэтов, не читая их стихов, страны, которую можно, пожалуй, назвать Эдемом, поскольку там обретают покой души умерших, покой, украшенный последним связующим страданием – тоской о брошенных музыкантах. Можно, можно оторвать что угодно, в этом мире отделимо всё, поэзия отключает центры боли, плоть молчаливо расходится под аккуратным лезвием, и танец продолжается в тишине... без снега, без дряни, без обочин...
...текст жизни, ограниченной обстоятельствами...
А музыканты остаются здесь, мёртвые, не существующие, но мы всё ещё можем заглянуть им в лицо.
…я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется…
И там, где проводится лезвие, Лабиринт вскрывается, как живое тело, но тут же примораживает сечение надреза, тут же омертвляет вышедшие наружу подробности, восстанавливая путаницу и блуждания самой настоящей жизни, но уже вокруг искусственно привнесённого разделения. Некоторое время в гулком зале раздаётся негодующий голос – Лабиринт замораживает надрез.
Многокрылый парусник, пёстрый воздушный корабль, многоэтажный театр-замок с балкончиками, галереями, колоннадами, мостками и амбразурами на башнях... с колоколами и флюгерами, с театрально-плотным лесом мачт, опутанных парусами и такелажем, и одновременно усаженного воздушными винтами в отдалённо жюльверновском духе... с длинными гюйсами и крохотными флажками, с корзинами гондол среди канатов... многоэтажный, пёстрооконный и медленнокрылый корабль поднимается неспешными и многочисленно-несовпадающими взмахами, поворачивает сложностянутый свой бушприт к закату и, задрав неустойчивый дворец кормы, где гремит и сияет музыка, улетает... И там, в сумраке, далеко-далеко, являет на прощанье целое облачко разноцветных огней и вспышек, и, новогодней ёлкой мигнув, исчезает совсем.
Назавтра здесь будет голая земля, жара, ослепление и раковины с шипами-пальцами, раковины с петушьими гребнями, с костяными пупырышками и рубцами, раковины в рыжих и серых каменных морщинах и складках - погибая от жары, они улыбаются сухими устьями своими.
Вот и всё, что осталось: поднять раковину с полированной, сизой гортанью, скривлённым нёбом уходящую в себя, поднять – и слушать, подставляя беспощадному светилу сгоревший висок. Пустыня бессмертна, а глубина раковины - это маленькая, свёрнутая внутрь мечта о пузырчато-плоской волне, заводящей подальше след свой на песке скрученным эмбрионом пены. Желудок раковины подскажет потную обыденность тишины.
Шёпот в комочке, вселенная уменьшается, стремительно сворачиваясь внутрь - слушайте!
Одно я могу сказать: неоткуда было взяться совести, только – из музыки... шооорох...
Я больше никогда не увижу моря, я не успею заработать на плацкартный вагон – времена здесь имеют признак бездны. Потому что я получил стыд за брошенных женщин и одураченных детей, за украденный гвоздь и плевок в лицо работника… только из музыки, только из музыки... шооорох...
Из стихов и музыки безумцев, да из сказок провинциальных трудяг, домовых и леших империи зла, которую положено ненавидеть вблизи и описывать добродушно издали, с благополучных побережий.
Из потустороннего звучания гениальных строк, которые гармонией своею взывают к порядочности…
Жестка раковина и сделана под лапу рептилии – на сухом дне морском только окуклившиеся зародыши шума торчат из кудрявых панцирей мёртвыми своими головками. Глаза открыты и слепы, да и не глаза это вовсе.
...Искусство, как обмолвка...
Высохшее дно моря, белёсые шипы окаменелостей, раковины-кувшинчики и раковины-шестерёночки, раковины-орхидеи со скрученными и вдавленными в самих себя лепестками, и раковины-черепа, черепа инопланетян с огромными глазницами...
...здесь только что было море; мгновение назад оно равнодушно грозило тьмою засыпающему сознанию и с весёлою равномерностью перелистывало пену через гипнотические тела волн... и вот, нету ничего: ни корабля, ни волн, ни музыки. И не было ничего, и уже не будет – не поверю.
...Искусство, как эмиграция...
...и вот – песок, зной, испещрённые символы раковин и подробные, архитектурно-просторные, рыже-белые скелеты рептилий и рыб, огромные, древние, не бывавшие никогда.
...Искусство, как самодостаточность...
...и, следовательно, – как сумасшествие...
Именно сквозь эти редкозубые триумфальные тоннели будут выплясывать перед взглядом ищущего воду скитальца, выплясывать крадущимся, приседающим маршем, морщась и щурясь, старинные знакомцы – гении, ноздреватые, сплюснутые и сгорбленные: раз-и-два, два, два... раз-и-два, два, два...
Живая фигура, пионерская звезда – вспрыгнули, сцепились, застыли!
Торжественный финал! Костяной вырост, тазобедренность неподвижности, остатки когда-то алчной жизни...
...Искусство, как зимний припас...
Стыд я получил не из Библии. Но – получил. От тех, кто когда-то читал её. | |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

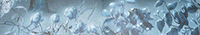
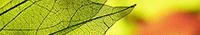
 Авторизация Авторизация |
|