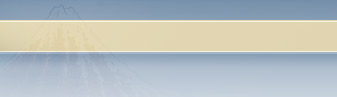|
|

Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и — вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим — значит владеть всем (Александр Грин)
Все произведения автора
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - Золото Хоккура
К списку произведений автора Проза
Держащая нить | Очень хотелось покрестить сына. Приобщить его этим к огромной и разнообразной кампании русских людей. Но у себя этого сделать было нельзя. Директор интерната, в котором я работала, чуть не на каждом собрании предупреждал, что хоть времена и меняются, но мы - педагоги, и нам не к лицу заниматься такими ритуалами.
А тут как раз подружка приехала. Проведать. Посмотреть на моего новенького сына. Слово за слово, я ей рассказала, что хочу покрестить ребёнка, но и работу боюсь потерять, город небольшой, предложения на тротуарах не валяются. А если и не попросят из школы, то будут на каждом сборище полоскать, как тряпку в корыте.
Вот подружка и сказала
- Какие поблемы? Приезжай ко мне в Невинку, там и покрестим.
Дело было зимой, автобусы в ту сторону не ходили до начала весны. А по весне я решилась ехать.
Но что-то странное происходило внутри меня. Раньше, не задумываясь, бросалась без подготовки в любое странствие, на любом транспорте, а тут как-будто атаки какие-то на мозг - страх, неуверенность. Меня это безумно злило. Я понимала, что дело в сыне. В том, что я теперь не перекати-поле, куда ветер дунул, туда и понеслась, а мать, очень любящая, и отвечающая за здоровье и благополучие своего дитя.
- Ну что я, не справлюсь что ли? Взрослая ведь тётка. Здоровая, сильная, умная. Оберегу, защищу, подстрахуюсь, если что. Да и что может случиться? Ведь полстраны объездила, опыта – вагон.
Так, загнав мысленными уговорами что-то подсознательное, упорно подающее тоскливые гудки, вглубь сознания, я, купив билеты, сообщив родителям, и продумав кучу удобств и мелочей, собрала своего маленького девятимесячного сына и первым весенним ночным автобусным рейсом отправилась в Невинку.
Места нам достались очень хорошие. Второе в ряду сиденье за шоферской кабиной. Расположились привольно. Поставив голубой детский горшок и сумку с самым необходимым под ноги, достав верблюжье детское одеялко и широкую подушечку, я устроила сына, соорудив что-то вроде гамака-колыбельки возле прохода, а сама заняла место у окна, от которого слегка дуло.
Автобус тронулся, и в сиреневеющем вечере, я привычно разглядывала знакомую с детства дорогу, зная каждый следующий кадр - выезд из города, межгорье, пляжное сельцо, домик над обрывом, Голицинскую беседку, повороты, повороты, повороты, «тёщины языки» на местном сленге, а потом и сплошь серый от цементной пыли Новоросс.
На автостанции Новороссийска, занимаясь обихаживанием бебика, выливанием горшка, проверкой сухости подгузника, утеплением чада, я слегка успокоилась. Томящее, зудящее чувство подлянки спряталось на время, убаюкалось.
Тронулись дальше. Абинск. Здесь бабульки всегда продавали очень вкусные пирожки. С сыном на руках я поскакала поближе к малюсенькому рыночку, и купила два последних. Следом за мной к бабкам подошёл, страсть какой симпатичный, дядька средних лет, из нашего автобуса. Высокий, сухого литья, но крепкой кости, в болотного цвета штроксах и английской резинки свитере. В руках у него была мужская кожаная сумочка для денег и документов, редкость по тем временам. Пирожков на его душу не осталось, ясно, я же взяла два последних.
Дядька догнал меня у автобуса и добродушно глядя, как я поедаю пирожок, сказал
- Вы счастливая. А мне не хватило.
От того, что он сказал это весело и не жалуясь, как бы насмешничая над собой, очень захотелось предложить ему второй, оставшийся пирожок. Но было боязно, что вдруг откажется, и я останусь как дура с протянутой рукой.
В полной ночной темноте мы доехали до Краснодара.
- Стоянка сорок минут
Сказал ведущий автобус шофёр. Его сменщик дремал на первом, у самой двери, сиденье. Народ завозился, зашевелился, полез из автобуса. Кто размяться, кто покурить, кто в туалет, кто просто порыскать по вокзалу от нечего делать.
И вот тут меня прихватило.
Никаких объективных причин не было, сын тихо сопел, укутанный в одеялко, рядом на сиденье, а у меня внутри вдруг включились какие-то воющие военные сирены. Их звук, казалось, был слышен даже снаружи меня. Волна паники накрыла и закрутила сознание
- Что я здесь делаю со своим ребёнком? Зачем я еду? Надо немедленно выходить из автобуса, садиться на встречный рейс и бегом домой! Домой! Домой!
Было так страшно, что я на какое-то время потеряла чувство реальности. Начала трясущимися руками, что-то собирать, вытаскивать.
В двери автобуса ловко вскочил шофёр, сказал дремлющему напарнику
- Поди пройдись.
напарник зашевелился.
Этот простой разговор чуть сбил непонятную атаку. Я села на место, положила руки на колени и, думая, что всё понимаю правильно, прикрикнула на себя мысленно
- Ты дура! Ты после родов совсем с ума сошла! В кого превратилась? В истеричку полную. Ведь не прохлаждаться едешь, а ребёнка крестить. Возьми себя в руки.
А так как после рождения сына я действительно очень изменилась, минуты не могла пробыть, чтобы не видеть ребёнка, постоянно волновалась, прислушивалась к нему, даже спать первые месяцы укладывалась на пол возле его кроватки, чтобы предотвратить безумно пугающую меня какую-то «остановку дыхания» или какой-то «дыхательный спазм», то состояние свое нынешнее с чистой совестью отнесла на счёт временного умопомешательства от счастья позднего материнства. То есть мне удалось себя худо-бедно уверить в беспочвенности страха.
Стоянка закончилась. Шоферы заняли свои места. Икарус долго крутя, кряхтя и петляя по узким улочкам, выбрался из Краснодара и, набирая скорость, ходко пошёл по трассе.
В ровной, убаюкивающей мягкой тряске я стала засыпать, бочком подтянув и положив сына на свои колени, ножки его, закрытые одеялом раскинулись на сиденье. В автобусе было темно и тихо. Только время от времени переговаривались шофёры. Приступ паники остался в прошлом, думая о том, как встретит меня подружка, я заснула…
Отчаянный крик шофёра за рулём
- Что он делает! Что он делает!
Это было последнее, что я услышала в той жизни.
………………………………………………..
Ночь. Чёрная. Звёзды как иголки колются с неба. Что-то очень твёрдое и неудобное подо мной. Зашевелилась. Рукой трогаю. Земля. Вся в каких-то кочках. Травы нет. Это убранное овощное поле. Наверное застонала.
Надо мной склоняется узкое неброское лицо. Эти характеристики я потом узнала. А тогда было просто чьё-то лицо надо мной.
- Пришла в себя? Жива? Умница! Лежи, лежи. Не шевелись, нельзя!
- Почему так больно?
- Авария. Наш автобус разбился. КАМАЗ налетел с прицепом.
А сын? Где сын? В голове закипает ужас!
- Дяденька! Там ребёнок был! Где он? Он со мной был!
Пытаюсь встать. Ног нет. Только боль.
- Лежи! Лежи! Я его вытащил. Нашёл. Его под сиденьями железом зажало. Он здесь рядом.
- Дяденька! Ему нельзя на земле, он простудится. Он маленький.
- Не бойся, девочка, копи силы. Я его на сорванное сиденье положил. Не на землю.
- И одеялко?
- И одеялко.
- А вы кто?
- Я в одном с вами автобусе ехал.
Ангел. Надо же как повезло! Ехать в одном автобусе с Ангелом.
Голова отказывает. От артикуляции, хоть и вялой всё лицо сначала как бы лопается засохшей коркой, а потом покрывается липким. Кровь.
- Кровь?
- Голова разбита у тебя.
.
- А почему мы здесь лежим?
- Ждём скорых. Уже вызвали. В станицу бегали к телефону.
Отключаюсь. Как не боролась, как не страшно за сына, отключаюсь.
Вроде бы как сквозь сон звуки сирен. Врачи. Осматривают. Других. Меня.
- Там ребёнок.
- Увезли уже ребёнка. Носилки давайте! С ногами аккуратнее…
………………………………………………………..
- Где я?
- В предоперационной. Иван! Как эти брюки снять, я не понимаю!
- Да вы их разрежте просто…
- Да? Вот спасибо!
Тот, кто возле меня почему-то издевательски смеётся. Я что-то не то сказала? Или мне кажется? Сознание то приходит, то обрушивается в полную черноту. Мимо меня проносят и кидают в какой-то бак мои бывшие брюки. Они не сине-серые, а почему-то буро-коричневые. А, да! Авария. Это кровь.
Опять провал.
Что-то со мной делают в сияющем светом и белым кафелем зале.
Провал.
- Где я?
- Проснулись? Вы в реанимации. Лежите, лежите! Не дёргайтесь. Вы привязаны. Так надо. Вы ещё не совсем в себе.
- А сын! Где мой сын?
- Какой сын? Вы с ним были в автобусе? Я ничего не знаю.
Начинаю рваться и биться.
- Сейчас, сейчас. Вы же хуже только себе делаете. Надо лежать спокойно. Пойду узнаю, потом скажу.
Провал.
Прихожу в себя. За дверью, наверное, в коридоре звук катящейся каталки и плач!
Это мой ребёнок! Плач совсем бессильный, слабый. Но это мой ребёнок!
Опять бьюсь. Опять рвусь. Кричу
- Сын! Это мой сын!
Набегают люди в белых халатах
- Тише, Тише. Тише. Что же вы делаете. Это просто ребёнок. Это не ваш сын.
Кому они это говорят? Чтобы я не узнала своего дитя?
Сил нет. Мне сделали укол. Уговаривают успокоиться. Я прошу, чтобы его положили рядом.
- Это не ваш сын…
- Не мой?..
Ладно, не мой… Но я-то знаю…
Опять ухожу. Сквозь шелест полёта-
голоса
- Как она услышала через две двери? Он же как кутёнок хныкал. Как узнала?
Хы. Как узнала. Смешно. Я же его мать…
Прихожу в себя от тихого скандала. Происходит непонятное. Открываю глаза. В отдалении, в углу палаты человек в белом что-то нехорошее делает с кем-то. Я думаю, что он его убивает. Очень страшно. Человек в медицинском халате замечает, что я пришла в себя и подходит тихо улыбаясь
- Проснулись? Вот и отлично. Сейчас я вам укольчик сделаю.
Я решаю, что таким способом он собирается меня убить, что бы физические силы не тратить, и из последних сил шепчу
- Не надо…
- Что не надо?
- Укол не надо…
Видимо он что-то понимает по моим умоляющим глазам. Аккуратно делает укол, гладит по щеке, отходит. Я готовлюсь умереть. Сквозь умирание слышу
- Представляешь, она решила, что я хочу её умертвить.
- А ты тоже хорош! Надо же потише!
- Ох, Натка, я этих алкашей битых видеть уже не могу. Нажрутся, головы свои поразмозжат, а мы их обхаживай, когда на соседних койках нормальные люди загибаются.
Реанимация. Ночная сорочка облёвана и заскорузла гигантским серо-зеленоватым пятном. Всё болит. С головой хуже и хуже. Не могу расслабиться. Где-то рядом сын и ему очень плохо. Потому что если бы было хорошо, это было бы первое, что мне сказали. Я всё время, пока в сознании, подслушиваю, ловлю обрывки разговоров, домысливаю, выстраиваю. Хочу понять что с ребёнком. При малейшем проявлении активного беспокойства меня отключают уколом так как нельзя нервничать.
У меня надкол черепа, сотрясение мозга, рваные раны и иссечение летящей из КАМАЗа мраморной крошкой, лица. Правая нога сломана и вывернута в голеностопном суставе, малая берцовая перебита, лопнувшей трубной опорой сиденья исковеркана напрочь. Какие-то из неё торчат струны. Левая нога - на голени три перелома, на бедре один, но сильно оскольчатый. За неё ещё не брались. Боялись, что помру. Поэтому я привязана к кровати. Ждут, когда хоть чуть-чуть лучше станет с головой.
Но у меня нет критичности сознания, не понимаю насколько всё серьёзно. Свои сотрясения и переломы мне кажутся только обидной помехой в деле спасения сына. То, что сына надо спасать – я не сомневаюсь. Это мне сиреной кричит интуиция, это витает в воздухе, это в ускользающих глазах медперсонала, стоит только спросить, и сразу – сорок бочек арестантов, глаза забегали-забегали и тут же, хлоп, укольчик!
Наконец-то, врачи решают, что меня можно перевести в палату. Вроде бы с головой получше. Я бы так не сказала.
На фоне постоянных мыслей о ребёнке развивается одна мания за другой.
Боюсь, что подо мной развалится кровать и я упаду и ударюсь сломанными, безумно болящими ногами, им уже не помогают никакие обезбаливающие, только отключение.
Из реанимации было принято решение перевозить меня в палату на той же кровати, к которой я там была привязана, а в лифте выяснилось, что она на глазах разваливается и еле дышит. Вот и началась боязнь падения.
Боюсь многих людей. Это видимо результат усталости от алкаша реанимационного медбрата. Мне кажется ужасно страшной громкоголосая медсестра. Какой-то мужчина, зашедший в палату, вызывает у меня приступ паники своими скользящими манерами и вкрадчивым голосом. Готово. Вот она – мания преследования.
Боюсь ночи. Больше всего боюсь засыпать. Потому что засну, и провиснет нить, которую я всё время натягиваю. На этой нити – самое главное, жизнь сына. Пока я контролирую нить – сын жив.
В палате ко мне приходит хирург, который будет чинить все переломы моей левой ноги, как только я наберусь хоть немного сил. Долго рассматривает поле своей деятельности – мои бывшие красивые длинные ножки. Говорит что и с правой не всё хорошо, будут что-то переделывать.
Всё это у меня идёт параллельно с контролем нити. Я как бы раздваиваюсь. Тут собственные проблемы, они очень досадны и болезненны в прямом смысле. А самое главное это сын.
- Доктор, а вы можете узнать о моём сыне?
Я тороплюсь, захлёбываюсь. Ведь вот, наконец, человек который всемогущ. Хирург! Он сможет.
Доктор спокойно смотрит на меня. Большой. Немного грузноват. Лицо хорошее.
Он всё записывает. Обещает разузнать. Говорит, что скоро ко мне можно будет приходить гостям.
Вот этого мне совсем не хочется, сил хватает только на контроль нити и чуть-чуть на себя, для продолжения жизни. Организм говорит, что я не имею права разбазаривать то малое, что он способен поддерживать. Нервы начинают дребезжать. Опять больно.
- И ещё, доктор, я так хочу курить, просто в глазах сигаретка стоит.
Доктор медлит. Раздумывает.
- Наверное, сейчас это не будет лишним. У вас с собой нет?
Откуда, ну откуда дорогой товарищ врач, у меня может быть сигаретка? Если я собственного сына найти не могу и узнать что с ним!
Доктор возвращается с медсестрой, приносит мне примку, и говорит своей напарнице
- Люда, пойди к сестре хозяйке, попроси у неё чистую рубашку, видишь, в чём у нас больная лежит, смотреть страшно.
Я покурила. Я жду. Нет, не рубашки. В руках у меня нить и я жду доктора с известиями о сыне.
Он приходит. Садится на стул у кровати
- Вы покурили? Вас переодели. Это хорошо. Я всё узнал. Ваш сын в нашей клинике, внизу, в нейрохирургии. Он без сознания. Разбит череп. Большой пролом. По нашему - дефект черепа. Осколки вошли в мозг. Его готовят к операции.
Всё что я слышу – ужасно. Но я испытываю огромную благодарность к этому человеку. Ведь он первый сказал, что мой сын жив.
Держим нить! Впереди операция. Я не дам ему умереть. Не дам. Теперь я понимаю, почему такой слабенький, как у котёнка был плач в коридоре реанимации.
Я опять, то ухожу, то прихожу в себя. Боль. Боль. Очень большая боль. Левая нога на вертолёте с гирей отвесом, правая в тяжеленном валенке гипса. Под гипсом незажившее поле в месте, где труба вырвала кусок живой плоти. Приходя в себя после очередного ухода, я подхватываю, подтягиваю нить, она пружинит, значит, сын жив.
Уже измучила всех медсестёр и санитарок просьбами сходить узнать, позвонить спросить, как там моё дитя. Но они ходят и звонят, только ничего хорошего и мне не могут сказать, и сами не ждут. Они люди опытные, а там, внизу, в нейрохирургии только качают головами.
Но жив.
С ним моя мама, совершенно затихшая от горя и страха. Готовят к операции. Говорят, что всё на волоске. После подобного вмешательства ребёнок может навсегда остаться овощем.
Мне всё равно. Главное – выжить. А там из овоща ещё такой фрукт может получиться! Я совсем дурная.
Операция. Моя. Штырь и обмотка металлической пластиной оскольчатого перелома в бедре, голень в аппарат Иллизарова. Упущена кровь. Гематома. Температура под сорок. Доктор ищет загнивающую кровь каждый день. Боль адская, новокаин вёдрами. Реву, порчу нервы такому замечательному человеку! Но больно, ужасно больно.
Медсестра, помогающая доктору, потихоньку наловчилось чуток успокаивать меня, она подгребает орущую голову и утыкает её в свой тёплый сквозь халат живот. Запах настоящей женской чистоты и её рука, поглаживающая мои плечи. Я затихаю. Наконец гематома найдена и высосана огромным шприцом.
Утром температуры нет. Так непривычно. Так легко. Как будто живу на потолке. Но нить со мной.
Обход. Хирург. Смотрит с улыбкой.
- Нас можно поздравить?
- Да, мой генерал. Вы – гений терпения,
доктор.
Огромный день. Операция сына. Мои папа с мамой в ожидании. Мама курит во дворе клиники. Папа сам ей купил сигареты. Что-то небывалое.
Операция закончена. Осколки кости удалены. Вместе с ними удалена сильно повреждённая иссечённая часть мозга. Дыра зашитая кожей.
Кома. Полная. Движения ноль.
.
Реанимация. Палата. Мама с ним. Кома. Ноль. Овощ.
Врачи просто герои. Сделали всё что могли. Но ни во что не верят.
Люди, доктора, спасибо вам, вы так старались! Отказались от покупки отцом дефицитных лекарств
- Да неужто мы для такого крохи не найдёт церебролизина!
На дворе начало девяностых, развал страны. Но лекарства для моего сына клиника нашла.
Кома. Ноль. Вскидываюсь ночью. Натянула.
Уже никто не верит. От меня отводят глаза. Вяло соглашаются позвонить вниз.
- Он не может умереть. Как вы не понимаете? Ведь я держу нить.
Как же я вам надоела, девочки. Простите меня. Я всё понимаю, но тогда я не могла иначе.
Кома пятый день, шестой, седьмой…
Он будет жить! Даже если он станет дурачком, он будет моим дурачком! Я не дам ему уйти. Я верю…
Кома. Полный паралич.
Не ем уже месяц. Только пью. Еда не лезет. Подружка говорила, что я стала, как скелет. Волосы лезут. Постарела на двадцать лет за полмесяца… Но это ерунда.
Ты должен выжить, сынок!
Кома. Двадцатый день. Утро. Обход. Нейрохирург смотрит рефлексы. Лёгкий укол в палец ножки.
Пальчик дернулся!
Доктор не верит. Ещё раз. Дёрнулся.
У врача поехало лицо. Ведь кроха перед ним. Хирург что-то продумывает, соображает. Поднимает глаза на мою маму
- Он может быть левшой?
Мама не знает кто мой сын – левша, или правша. Ему же ещё года нет!
- Может, мама, может! Что ж ты растерялась! Ведь его отец переученный левша, ты – переученная левша, я одинаковорукая, при необходимости, орудую левой и очень быстро приучаюсь. Конечно он левша!
- Молитесь, бабушка, чтобы он оказался левшой. Тогда не всё потеряно!
Врачи веселеют. Ведь такого малюсенького пациента в их отделении битых голов, никогда не было!
Сын выходит из комы. Паралич правой части тела. Потеря речи. Но мычит. А ведь уже говорил…
- Ну и пусть паралич! Расходимся. Ну и пусть только мычит! Научимся снова!
Помнишь, сынок, как ты сказал до аварии своё первое в жизни предложение? Мы были с тобой на рынке, я стояла в очереди, ты сидел в коляске, впереди нас молодой грузин с аппетитом ел хлеб, откусывая прямо от батона. А ты так завидовал этому дядьке, тебе так тоже хотелось хлебушка, что ты вдруг взял и сказал: «Дядя, дай!», и протянул пухлую ручку. Грузин растерялся, растрогался, отвалил полбатона и протянул тебе.
- Спасибо тебе, грузинский мужчина! Мужик, ты – мужик!
Да. Мой сын оказался левшой. И поэтому стал выздоравливать. Что-то там с центрами головного мозга, по разному расположенными у правшей и левшей. Если бы он был правшой, всё было бы намного хуже…
Настал день, когда кособоко прихрамывая, волоча правую ножку и вяло держа правую ручку, мой сын вошёл ко мне в палату. Мама, идущая с ним рядом, молчала, молчал врач, провожающий их, молчала я. Сын пооглядывался, рассматривая женщин на высоких хирургических кроватях, увидел меня и заспешил-захромал к окошку, рядом с которым я лежала. Растерянно посмотрел на железно-гипсовые ноги, и уткнулся мне в плечо.
Да! Фрукт! Не овощ. Узнал мамку. Замычал, затёрся носом.
Мамочка моя, не отходившая от него всё это время ни на шаг - из последних сил держала лицо, что бы не расплакаться, северное воспитание, Урал, как-никак, всё внутри. Ох, милая моя, какое же ты великое дело сделала… Вот и нет тебя уже давно, но я всегда буду помнить, как ты спасала моего мальчика.
И то, как мой отец всё это время, пока мы были в больнице, провёл в поездке между двумя городами, став нам и курьером, и закупщиком, и доставателем всего, что надо, и утешителем…
И девочки медсёстры, которых я измучила. И которые в тот день принеслись в нашу палату, все, кто был на дежурстве
- Это твой сын? Это правда твой сын?
они так радовались, что он оказался жив. Купили лошадку на колёсиках и подарили ему…
Мы выкарабкивались очень долго. Год я лежала в постели. Всё время проводили в нанизывании на верёвку колечек мягкой полиэтиленовой пирамидки, в сборке крупных деталей конструкторов, раскрашивали картинки - разрабатывали руки.
Берегли голову сына. Руками, всей семьёй, прикрывали углы. Пластину на череп, закрывающую безкостный участок, можно было поставить только через год после операции. Как сказали врачи
- Должно совершенно зажить операционное поле.
Поднялась я только потому, что надо. Если бы была одна, наверное так и осталась бы лежачей. Вставать было почти не на что. Сначала научилась сидеть на стуле, потом на коврике по полу ездила, потом стала стоять у окна, держась за подоконник, потом пошла на костылях, на двух палках, на одной.
Сын, как-то сидя со мной в постели, вдруг стал мыкать прерывисто, замолк, поднапрягся, и сказал, как с горы прыгнул
- М- м - ма – ма.
Свершилось! Хотелось крикнуть, как крикнул Гагарин
- Поехали!
С правой рукой проблемы были очень долго.
Сидящего в коляске сына, раззадоривали наши знакомые, протягивающие ему руки для рукопожатия. Он тянул левую, ему говорили
- Нет-нет, надо правую!
И он, поначалу, просто левой приподнимал и выставлял вперёд, неработающую тогда, другую ручку.
Размеры проблемы потихоньку уменьшались. Настало время, когда не знающий о случившемся человек, не смог бы догадаться о том, что не всё гладко.
Мужик тот симпатичный из автобуса, который с пирожками, погиб тогда.
И я вот всё думаю, а вдруг если бы я не побоялась, и всё-таки дала ему пирожок, вдруг бы он выжил?
А нить…
Я до сих пор её держу. | |
| Опубликовано: | 13.03.2014 20:38 | | Просмотров: | 3383 | | Рейтинг: | 0 | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться
|
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса  Авторизация Авторизация
 Объявления Объявления
- 31.12.2021
- Люди! Решеторианцы! С Наступающим !
 Приветы Приветы
- 25.06.2020 01:28 ArinaPP
- Спасибо большое, Марко, мне приятно. Очень.
- 25.06.2020 00:51 marko
- Арина, поздравляю с Рождением! Здоровья, мира, любви, вдохновения!
- 29.06.2019 00:50 marko
- Привет, Арина! Что именно?..
- 24.12.2018 19:24 ArinaPP
- Спасибо! А я сознательно уходила от рифмы. Не знала)).
- 24.12.2018 17:02 tamika25
- Ира, привет) В порошках последнее слово, которое из двух слогов, должно рифмоваться с последним словом второй строки. Такое правило. :)
- 10.10.2018 17:57 Rosa
- еще можно успеть
http://www.reshetoria.ru/govorit_reshetoriya/anonsy/news8239.php
- 21.09.2018 16:57 tamika25
- Привет, Ира. У Сергея ник cosmeat. Он в последнее время вёл шорт. Ну и публиковал стихи, конечно.
- 15.09.2018 00:50 tamika25
- Я очень рада, что попала в точку) Честно говоря, у меня не было сомнений кого наградить этой книгой :)
- 05.08.2018 10:51 ole
- Доброго дня, Ирина)
Стих отличный. Мне очень понравился))
Только вопрос не к привратнику, а к Королеве. Если сомневаетесь, публикуйте его без пометки, и мы спросим у ее Величества, когда она вернется.
Несомненно только, что его надо публиковать.
- 14.07.2018 01:19 tamika25
- Я очень рада, Ирочка. Книга шла из Киева в Питер, потом из Питера в Москву. А из Москвы уже к тебе на Юга :)
|
|