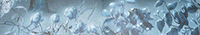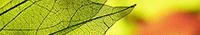|

Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь (Иван Гончаров)
Поэзия
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
| из цикла "АРТ-ХАУЗ" | Синдром Кафки | Из маски искусства и магики я вынес только Бэтмэна,
без сестер...
Я отделяю искусство от квантового скачка
потрясти людей смертью Френка Заппы...
Уровня зрелости души Будды не достиг,
но яркая зрелость вины с ветром есть,
есть, и я и ветер наделали много художественных опусов с заморочками
печальных примеров Литературы...
Спиритуалистские трактаты раздражают из-за неведения происхождения
собеседника, хоть свифтовское воображение
и признало заслугу дружбы во
Вселенной...
Ветер постоянно невообразимо жив,
управляет моей системой недисциплинированности,
и все преступные, для общества,
деяния вызывают трещины в онтологии моей
философской бездны...
Точка зрения всегда зависит от того,
кому и какому эксперту доверяют...
Поэтому точек зрении нет у меня,
лишь эксперименты без экскрементов и
точек, с левого приклада глаза, натяжкой корректной логики...
Четкий помощник ПОНИМАЮЩЕГО ПЕРФОРМАНСА,
личных заговоров, и секретных
мистификации-ВЕТЕР, понял-принял меня в 15 лет,
и сделал супер-мальчика
со серьезной миной не лице...
Работая с посланниками постмодернизма, фовизма,
кубизма и импрессионизма, я стал разделять невысокие мнения о высоких,
от высоких мнении о низких...
Пинчон, Берроуз и Воннегут-не мои любимые писатели, ибо беспросветность
и
пессимистичность отбросил стыдливо и воскликнул:
-"МНЕ НЕ НУЖНО ДОКАЗЫВАТЬ ПОДЛИННОСТЬ БОГА И ИСКУССТВА!"
Эта благородная мысль, ПОДАРОК ОТ МЕРОВИНГОВ,
без фальсификации и
мертвых тел розенкрейцеров, буквально пала,
когда дотронулся до ее ляжек...
Утренний ритуал начался с кофе,
что принес мой-Ветер, истинный гурман,
что засовывает в тухлые ноздри человечества разные апокалиптические
запахи, и стал думать о этичности и боязливости Кафки:
-чуть бы
побольше тестостерона и он бы перевернул Литературу в очередной раз,
ибо пролежни, что появились у нее от лежачего статуса на спине, стали
вонять!
Я ПЕРЕВЕРНУ ЛИТЕРАТУРУ НА БОК, НА ЛЕВЫЙ БОК, С МАЛОЙ КРИВИЗНОЙ, БЕЗ
ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ МЕМУАРИЗАЦИЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ УРОДОВ, ЧТО
ЗАСЛУЖИВАЮТ НАДГРОБНЫХ КАМНЕЙ ИЗ СЛИГО, НА ДИКОМ ЗАПАДЕ ИРЛАНДИИ.
Я ПЕРЕВЕРНУ ЛИТЕРАТУРУ, БЕЗ СЕКСУАЛЬНЫХ ВОЖДЕЛЕНИИ, МАНДАРИНОВЫМ
РАЗВОДОМ ХЛОПАЮЩИХ КРЫЛЬЕВ КОЛИБРИ, И ДАМ ПОЧИТАТЬ ЕЙ КНИГУ О
ГИГАНТСКОМ ЛИЛИПУТЕ, ЧТО ОСОБЕННО ДРУЖИТ С ВЕТРОМ!
Ветер уговаривал меня подать в суд НА ВСЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МИРА,
доказывая, что они ИГРАЮТ РОЛЬ ТАРАНА И ТАРАНЯТ ПЛАНЕТУ, отчасти
принадлежавшему ему, и бессознательное большинство людей лишь погремушки
на этом таране!
Острова микро-и макроамнезии растут
и нетипичное простодушие Боба Ши,
не хотящее отдавать происходящее в огласку,
умножает педерастическую
жизнь буржуа, что трахаются настолько скромно,
что фаршированные котлеты
китайского ресторана постепенно принимают вид кучерявых детей...
-МОЙ БРАК С СОЦИУМОМ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!
БЛЕДНАЯ КОПИЯ "ПЛЭЙБОЯ"КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ ЗАРАБОТАЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ФРАЗА ЛЮЦИФЕРА: "ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ ТЬМЫ!"
Полюбив Гуссерля и Ницше,
хоть давно проехав их остановки, я видоизменил
маски фантазии нормальной частности на кайф истинного искусства, что не
зависит
ОТ СУЖДЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЯ,
НО ВХОДЯЩЕГО ВО ВНУТРЬ И ПРОВЕРЯЮЩЕГО ВСЕ
СЦЕНИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ без пропагандистской подачи истории,
яко завралась так,
что не может отличить следы циклопа от анальных извержений скунса!
МЫ ПИШЕМ! Я И ВЕТЕР!
Чудовищный роман, менее отвратительный, чем моя квартира,
без историо-атмосферы,
без капитало-континентальной морали,
без афоризмов и царственно-дарственных
достопримечательностей,
-ЛИШЬ БОЛТАЯ В НОЧИ, ВСПОМИНАЯ ВСЕ МЕРЗОСТИ
ЗАПУСТЕНИЯ, ОПИСЫВАЯ ВОЛШЕБСТВО НЕИМОВЕРНОСТИ,
ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА,
ВНУТРЕННИЙ СВЕТ БЕЗ СЧЕТЧИКОВ, БЕЗ СУЧКИ-МОРАЛИ,
НЕОБЪЯСНИМОЕ СОЧУВСТВИЕ
БЕЗ САМОЧУВСТВИЯ, МИФЫ О КОПИРУЮЩИХ НАТУРУ,
ЭВОЛЮЦИЮ ПОТОМСТВА
СПАРТЫ, ФУНДАМЕНТАЛИЗМ СВЯТОСТИ,
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОДДЕЛКИ САМООСОЗНАНИЯ,
СПИННОМОЗГОВЫЕ ПУНКЦИИ СИНТАКСИСОМ,
СИСТЕМУ СИРИУСА, КОТОРАЯ "ВОСХОДИТ"
НАД СОЛНЦЕМ 23 ИЮЛЯ...
Я НЕ СЛУЖУ НИЧЕМУ И НИКОМУ! ДАЖЕ ЛИТЕРАТУРЕ!
МОЯ СВОБОДА ТОТАЛЬНА,
и власть моего разума больше, чем власть всех европейских
правительств!
Мой великий предок Дагобер второй,
что искал ты в арденском лесу 23 декабря
679 года, может известие, что в 20-м веке родится сокровник-Я?!
Я ПОНЯЛ ТВОЮ СТРАТЕГИЮ:
ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СГОВОРА МЕЖДУ МНОЙ И ВЕТРОМ!
ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО ВЕТЕР ПОКАЖЕТ МНЕ СВОБОДУ,
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
-НИЧТОЖНА,
НО Я ПОДОЖДУ ГЛУБОКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОТПЕЧАТОК НА ЗЕМЛЕ... | |
| Автор: | mitro | | Опубликовано: | 30.10.2019 19:50 | | Создано: | 21.10.2019 | | Просмотров: | 1077 | | Рейтинг: | 50 Посмотреть | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

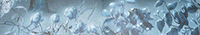
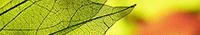
 Авторизация Авторизация Камертон Камертон
Перед нашим окном дом стоит невпопад, а за ним, что важнее всего, каждый вечер горит и алеет закат - я ни разу не видел его. Мне отсюда доступна небес полоса между домом и краем окна - я могу наблюдать, напрягая глаза, как синеет и гаснет она. Отраженным и косвенным миром богат, восстанавливая естество, я хотел бы, однако, увидеть закат без фантазий, как видит его полусонный шофер на изгибе шоссе или путник над тусклой рекой. Но сегодня я узкой был рад полосе, и была она синей такой, что глубокой и влажной казалась она, что вложил бы неверный персты в эту синюю щель между краем окна и помянутым домом. Черты я его, признаюсь, различал не вполне. Вечерами квадраты горят, образуя неверный узор на стене, днем - один грязно-серый квадрат. И подумать, что в нем тоже люди живут, на окно мое мельком глядят, на работу уходят, с работы идут, суп из курицы чинно едят... Отчего-то сегодня привычный уклад, на который я сам не роптал, отраженный и втиснутый в каждый квадрат, мне представился беден и мал. И мне стала ясна Ходасевича боль, отраженная в каждом стекле, как на множество дублей разбитая роль, как покойник на белом столе. И не знаю, куда увести меня мог этих мыслей нерадостных ряд, но внезапно мне в спину ударил звонок и меня тряханул, как разряд.
Мой коллега по службе, разносчик беды, недовольство свое затая, сообщил мне, что я поощрен за труды и направлен в глухие края - в малый город уездный, в тот самый, в какой я и рвался, - составить эссе, элегически стоя над тусклой рекой иль бредя по изгибу шоссе. И добавил, что сам предпочел бы расстрел, но однако же едет со мной, и чтоб я через час на вокзал подоспел с документом и щеткой зубной. Я собрал чемодан через десять минут. До вокзала идти полчаса. Свет проверил и газ, обернулся к окну - там горела и жгла полоса. Синий цвет ее был как истома и стон, как веками вертящийся вал, словно синий прозрачный на синем густом... и не сразу я взгляд оторвал.
Я оставил себе про запас пять минут и отправился бодро назад, потому что решил чертов дом обогнуть и увидеть багровый закат. Но за ним дом за домом в неправильный ряд, словно мысли в ночные часы, заслоняли не только искомый закат, но и синий разбег полосы. И тогда я спокойно пошел на вокзал, но глазами искал высоты, и в прорехах меж крыш находили глаза ярко-синих небес лоскуты. Через сорок минут мы сидели в купе. Наш попутчик мурыжил кроссворд. Он спросил, может, знаем поэта на п и французский загадочный порт. Что-то Пушкин не лезет, он тихо сказал, он сказал озабоченно так, что я вспомнил Марсель, а коллега достал колбасу и сказал: Пастернак. И кругами потом колбасу нарезал на помятом газетном листе, пропустив, как за шторами дрогнул вокзал, побежали огни в темноте. И изнанка Москвы в бледном свете дурном то мелькала, то тихо плыла - между ночью и вечером, явью и сном, как изнанка Уфы иль Орла. Околдованный ритмом железных дорог, переброшенный в детство свое, я смотрел, как в чаю умирал сахарок, как попутчики стелят белье. А когда я лежал и лениво следил, как пейзаж то нырял, то взлетал, белый-белый огонь мне лицо осветил, встречный свистнул и загрохотал. Мертвых фабрик скелеты, село за селом, пруд, блеснувший как будто свинцом, напрягая глаза, я ловил за стеклом, вместе с собственным бледным лицом. А потом все исчезло, и только экран осциллографа тускло горел, а на нем кто-то дальний огнями играл и украдкой в глаза мне смотрел.
Так лежал я без сна то ли час, то ли ночь, а потом то ли спал, то ли нет, от заката экспресс увозил меня прочь, прямиком на грядущий рассвет. Обессиленный долгой неясной борьбой, прикрывал я ладонью глаза, и тогда сквозь стрекочущий свет голубой ярко-синяя шла полоса. Неподвижно я мчался в слепящих лучах, духота набухала в виске, просыпался я сызнова и изучал перфорацию на потолке.
А внизу наш попутчик тихонько скулил, и болталась его голова. Он вчера с грустной гордостью нам говорил, что почти уже выбил средства, а потом машинально жевал колбасу на неблизком обратном пути, чтоб в родимое СМУ, то ли главк, то ли СУ в срок доставить вот это почти. Удивительной командировки финал я сейчас наблюдал с высоты, и в чертах его с легким смятеньем узнал своего предприятья черты. Дело в том, что я все это знал наперед, до акцентов и до запятых: как коллега, ворча, объектив наведет - вековечить красу нищеты, как запнется асфальт и начнутся грунты, как пельмени в райпо завезут, а потом, к сентябрю, пожелтеют листы, а потом их снега занесут. А потом ноздреватым, гнилым, голубым станет снег, узловатой водой, влажным воздухом, ветром апрельским больным, растворенной в эфире бедой. И мне деньги платили за то, что сюжет находил я у всех на виду, а в орнаменте самых банальных примет различал и мечту и беду. Но мне вовсе не надо за тысячи лье в наутилусе этом трястись, наблюдать с верхней полки в казенном белье сквозь окошко вселенскую слизь, потому что - опять и опять повторю - эту бедность, и прелесть, и грусть, как листы к сентябрю, как метель к ноябрю, знаю я наперед, наизусть.
Там трамваи, как в детстве, как едешь с отцом, треугольный пакет молока, в небесах - облака с человечьим лицом, с человечьим лицом облака. Опрокинутым лесом древесных корней щеголяет обрыв над рекой - назови это родиной, только не смей легкий прах потревожить ногой. И какую пластинку над ним ни крути, как ни морщись, покуда ты жив, никогда, никогда не припомнишь мотив, никогда не припомнишь мотив.
Так я думал впотьмах, а коллега мой спал - не сипел, не свистел, не храпел, а вчера-то гордился, губу поджимал, говорил - предпочел бы расстрел. И я свесился, в морду ему заглянул - он лежал, просветленный во сне, словно он понял всё, всех простил и заснул. Вид его не понравился мне. Я спустился - коллега лежал не дышал. Я на полку напротив присел, и попутчик, свернувшись, во сне заворчал, а потом захрапел, засвистел... Я сидел и глядел, и усталость - не страх! - разворачивалась в глубине, и иконопись в вечно брюзжащих чертах прояснялась вдвойне и втройне. И не мог никому я хоть чем-то помочь, сообщить, умолчать, обмануть, и не я - машинист гнал экспресс через ночь, но и он бы не смог повернуть.
Аппарат зачехленный висел на крючке, три стакана тряслись на столе, мертвый свет голубой стрекотал в потолке, отражаясь, как нужно, в стекле. Растворялась час от часу тьма за окном, проявлялись глухие края, и бесцельно сквозь них мы летели втроем: тот живой, этот мертвый и я. За окном проступал серый призрачный ад, монотонный, как топот колес, и березы с осинами мчались назад, как макеты осин и берез. Ярко-розовой долькой у края земли был холодный ландшафт озарен, и дорога вилась в светло-серой пыли, а над ней - стая черных ворон.
А потом все расплылось, и слиплись глаза, и возникла, иссиня-черна, в белых искорках звездных - небес полоса между крышей и краем окна. Я тряхнул головой, чтоб вернуть воронье и встречающий утро экспресс, но реальным осталось мерцанье ее на поверхности век и небес.
Я проспал, опоздал, но не все ли равно? - только пусть он останется жив, пусть он ест колбасу или смотрит в окно, мягкой замшею трет объектив, едет дальше один, проклиная меня, обсуждает с соседом средства, только пусть он дотянет до места и дня, только... кругом пошла голова.
Я ведь помню: попутчик, печален и горд, утверждал, что согнул их в дугу, я могу ведь по клеточке вспомнить кроссворд... нет, наверно, почти что могу. А потом... может, так и выходят они из-под опытных рук мастеров: на обратном пути через ночи и дни из глухих параллельных миров...
Cын угрюмо берет за аккордом аккорд. Мелят время стенные часы. Мастер смотрит в пространство - и видит кроссворд сквозь стакан и ломоть колбасы. Снова почерк чужой по слогам разбирать, придавая значенья словам (ироничная дочь ироничную мать приглашает к раскрытым дверям). А назавтра редактор наденет очки, все проверит по несколько раз, усмехнется и скажет: "Ну вы и ловки! Как же это выходит у вас?" Ну а мастер упрется глазами в паркет и редактору, словно врагу, на дежурный вопрос вновь ответит: "Секрет - а точнее сказать не могу". |
|